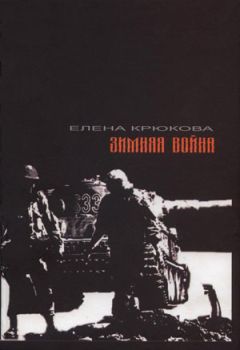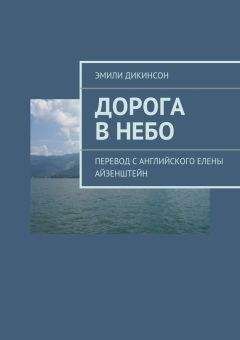А на Красную площадь выбегала, что ни ночь, девица Иезавель, с распущенными по плечам волосами, с нагими трясущимися грудями, в ушах у нее мотались два золотых полумесяца, во рту торчала дымящаяся сигарета, и она вопила, хлопая себя по толстым ляжкам, дебелая, нарумяненная, с космами, закрученными на раскаленных спицах:
— Я блудница!.. Я блудница!.. А блудница огня не боится!.. Мои дети все сгорели!.. А я лежу в огненной постели!.. Мое любодеянье жертвенное!.. Мое объятье мертвенное!.. Мои щеки — апельсины!.. От юбки пахнет бензином, керосином!.. Брось спичку в меня — увидишь пляску огня!..
Люди шептали, заслоняясь от ветра черными лопухами — воротниками вытертых шуб:
— Рифмадиссо убили, так теперь эта орет… Нет, пророки на Руси не переведутся и в смертный ее час…
— Не пророки, что болтаешь, а скоморохи…
— Да уж, все мы шутники, все гаеры и пересмешники… вот и горим теперь пламенем синим и золотым…
Ночь проходила. Огонь оставлял на теле Армагеддона новые черные ямы и прогалы. Люди исчезали вместе с огнем. Над Площадью всходила утренняя звезда. Она была когда какая: то слепяще-синяя, то ярко-красная. «Марс!.. Венера!..» — шептали знатоки звезд, поднимая к зениту изможденные костлявые лица. Им все казалось: это знак. Находились даже такие, которые считали, что огонь можно заговорить, так же, как кровь. Над ними смеялись. Разве Божий Огонь заговоришь. Никакое кустарное колдовство тут не поможет. Это судьба.
Вокруг было лишь два начала: холод и жар. Теплого, срединного не было. И люди были такие же. Одни горели вместе с огнем, и в их глазах горело последнее сумасшествие и жаркий, как объятье, восторг всесожженья. Другие глядели на общую гибель холодно, сине, надменно, возвышаясь над происходящим, ненавидя его, отворачиваясь от него, закрывая глаза, чтоб не видеть его.
А Бог мазал им глаза обжигающей метелью, чтоб они опять открыли их и видели ясно, что с ними происходит, чтоб храбро глядели неизбежному в лицо; и Бог стоял у двери и стучал, требуя, чтобы вышли в ночь, в горенье огней, и стояли близ кострищ, и не двигались, когда огонь начнет обнимать живых, и понимали, что это есть второе Крещенье, когда, обличая и наказывая, Бог любит и ласкает любимых им.
— Маня, мы сгорим!.. смотри, огонь ползет к моим ногам… подползает…
— Петя, мы победим. Мы победим и сядем на престоле… там, в вышине… взойдем к нему по лестнице… помнишь, я сон тебе свой рассказал, как мы по лестнице на небо взбираемся… вон он сбывается…
— Обними меня!..
— Я люблю тебя… я люблю тебя… как поздно я понял, что я люблю тебя… так слушай, родная, слушай это, так обнимай меня крепко…
Коромысло, не гляди на меня так. Коромысло, я не виноват. Все это она. Все это Косая Челка. Она клянется и божится, что она была с теми, тогда, с мертвой Армией, что защищала Дворец. Какая чушь. Какие невероятные сказки. Откуда бы ей там быть. Она что, сто лет живет. Глянь, какое молоденькое, гладенькое личико. Ну, ты! Изысканная халда!.. Поверни морду. Вот так. Ну не ведьма же она, в конце концов.
А может, и ведьма.
Коромысло, зачем ты так смотришь на меня. Говорю тебе, что я хотел, как лучше. Убери глаза. Убери свои глаза! Они стреляют в меня. Я не хочу умереть от твоего взгляда.
Ты еще покорчишься под моим взглядом, Авессалом. Я делал ставку на тебя. Я прогадал. Ты не совершил намеченного. Ты оказался трусом. И вдобавок предателем.
Кого я предал?! Я никого не предал!
Ты не предал только себя. Ты спасал свою шкуру. Но и себя ты в конце концов предал. У предателя впереди должно маячить возмездье. Собаке собачья…
Я не собака! Я не собака! Я еще не одичал! Меня нельзя убивать!
Ты, Косая Челка. Внимательней погляди на эту визжащую собаку. И скажи, что он не исполнил перед тобой. Какую партию он не спел. Ведь он где-то сфальшивил. Где?! В каком месте разыгранной партитуры?!
Не лапай мне лицо, шеф. Это еще не суд.
Это уже Страшный Суд, дура. Над Армагеддоном уже висит огненное облако. Вы загубили такой город. Такую великую землю. Не слишком ли дорогая цена за один вшивый, дрянной, гадский, никому не нужный камешек. Лучше б он валялся в вокзальном дерьме. Торчал в башке у ихнего золотого идола. Вы загубили мне то, чем я должен был владеть!
Подумаешь. Властелин мира. Да я таких властелинов видала…
Зачем!.. ты бьешь ее по зубам… ты же выбьешь ей зуб… ты разобьешь ей губы…
А ты что, еще надеешься ее поцеловать посмертно?.. ну ты и жлоб. Ты от скромности не умрешь. Мама тебя гордым родила. Где ваши все марионетки?! Где ваша военная кукла Ингвар?! Где подсадная утка, Царский цыпленок?! Где вся ваша камарилья черных, работающих на тебя, ублюдок, бездарность?!.. Где, в конце концов, ваш самый главный герой-любовник, ваш завшивленный солдат, ваш окопный божок, этот, как его, двуименный, трехязычный, ваш православный дзюдоист, ваш Ангел Божий… проклятье, как его?!.. что с моей головой… ведь когда я прилетал в Ставку к Ингвару, я еще помнил его имя… его имя…
Коромысло!.. не притворяйся. Ты прекрасно знаешь его имя. Ты просил Армагеддон в обмен на его голову. Ингвар, старый волчара, предпочел сжечь Армагеддон, как Карфаген, но оставить в живых Леха. Ты оставил его в живых! Оставил! Чего же ты хочешь еще от меня!
Я его упустил.
Не упустил. Это я его не убила.
Что-о-о-о-о-о?!
Это я его спасла. Я приволокла его из того парижского кабачка на Монмартре, где он потерял сознанье от ваших, милль пардон, жестоких побоев и пыток, в дом своей подруги. Милые такие француженочки… ох и славные… они так за ним чудненько ухаживали… откормили его, раны бальзамом мазали…
Ах ты!..
Не бей женщину, Коромысло! Не бей!
Пусть бьет. Зубом больше… зубом меньше. Когда я сражалась в горах за Дворец, я еще и не такое видала от… ваших. Золотой вставлю. Когда буду стрелять в таких, как вы, буду улыбаться, зубом блестеть.
Она еще и издевается.
А ты… и вправду… тогда… за Дворец — сражалась?!..
А что бы мне врать. Эх, разбил ты мне перламутровые губки, начальник. Больше тебя никогда не поцелую. Пошел ты.
Почему ж ты… такая молодая?..
Авессалом, ты дурак. Ты сейчас должен последнююю молитву читать, а не с бабой о чепухе лясы точить. Русская баба потрепаться любит.
А потому. Потому что, дураки вы оба, времени нет.
Поговори еще, Косая Челка. Так это ты, оказывается, спасла его. Все во всех заговорах замыкается в конце концов на человеке. На его жалкой, кому-то нужной жизни. На деле она никому не нужна. Мы только делаем вид. Я сделал вид, что мне была нужна жизнь этой… парфюмерши. Этой вашей Паломы Пикассо. И это ты, Косая Челка, тогда бомбу в самолет подложила. За мои же собственные деньги. Ты виртуозка. Хотя и он, ваш Лех, виртуоз. И в цепи тех, кто в тени, во тьме правит мировой бал, я отвел бы ему далеко не последнюю роль. Если б, конечно, он согласился работать на меня.
Лех не работал бы на тебя никогда.
Почему, гадюка?!
Потому что Лех работал на Бога. Лех работал Богу, понятно. Лех вырвался из клетки, из-за решетки. Выбежал с белого поля, разграфленного вами на четкие квадраты. Он разбил свою тюрьму. А значит, и ваша общая тюрьма дала трещину. Если бы в России все были такие, как Лех, мы бы вам никогда себя…
Кончай разглагольствовать, ведьмачка! Белогвардейка недорезанная! Времени, видишь ли, нет! Я тебе сейчас покажу, как это времени нет! Где оно находится, по-настоящему! Думаешь, у тебя в п…е?!.. Все бабы так думают! И ведьмы и не ведьмы! А я, по-твоему, где! Я слишком много, слишком хорошо платил тебе за него! Жаль, что ты его тогда, около Сакре-Кер, не застрелила! Влюбилась в него, что ли! Ну и дура! Поделом тебе! На!
Коромысло! Она же тоже знает Тайну! Она хочет сказать… ее губы шевелятся! Не надо! Не стреляй!
Высокий и скуластый мужик в черном шерстяном капюшоне, обтягивающем затылок, поднял пистолет и выстрелил в упор в девушку с косо срезанной, летящей через весь лоб челкой, со связанными за спиной руками. Падая на кирпичный, покрытый ледяной седой изморозью подвальный пол, она прошептала одними губами:
— Пашка… я видела Царя… он стоит около замерзших рельсов… около путей… он в башлыке… в рукавицах… ему холодно, Пашка… ты похорони меня, девицу-кавалериста, с почестями… сбрось в пропасть там, в горах, и выстрели в пургу три раза в мою память… Бог Троицу любит…
У другого, оставшегося в комнате один на один с мужиком в черном капюшоне, тоже были скованы руки. Он помялся, захрустев кожаной черной курткой, и поглядел скуластому мужику глаза в глаза.
— Коромысло!.. Наручники врезались в кость… отомкни замок… неужели ты меня убьешь… свою правую руку… ногу…
— Эта, — скуластый презрительно шевельнул ногою упавшую на заиндевелый кирпич юную женщину с уже остановившимися, стекленеющими глазами, — не в себе. Такую чушь про время молоть. Или?..