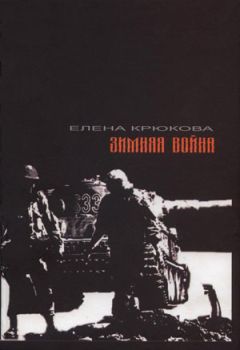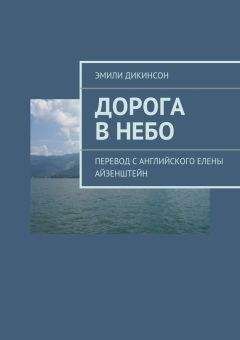И навстречу старику с горящей чашей вышла из-за кремлевской красной стены маленькая, как кнопка или ягодка, низкоросленькая женщинка, с виду отроковица, но женские кормившие груди высоко обозначались у нее под одеждой; и за руку она вела, тащила маленького мальчика, а на другой руке держала, как кочанчик, девчонку, и девчоночка обнимала мать за шею, и глаза у девочки были узкие, косого озорного разреза, дикие, куничьи, испуганные; и за идущей с детьми маленькой женщиной полз сзади огромный огненный дракон, он вился и изгибался, он пожирал пламенем все вокруг, но не мог зубастой, языкастой пастью достать ее — она все уходила и уходила, а он все взлизывал огненными языками снежную муть за ее спиной, за плечами. Маленькая женщина подошла к старику и поглядела на него строго снизу вверх.
Ты учитель Хомонойа?
Я. Хомонойа здесь?
Здесь. Он перевоплотился. Он перевоплотил меня. Я перешла вброд реку бардо. Видишь, я здесь. Я ищу мужа моего, Юргенса. Он сгорел?
Мне не дано знать. Пусть Хомонойа ведет тебя в Кремль. Там еще не сгорели древние храмы. Но огонь уже обнял их. Спеши туда. Войди под своды. Ты ведь пела в церкви, маленькая девочка. Ты видела лазурные, алые, рубиновые фрески. Еще не сгорел Иконостас в Успенском соборе. Еще твои, наши святые глядят со стен, с длинных, голодно вытянутых икон, и золотой свет сочится из них небесным пламенем. Иди туда, смотри, и они все скажут тебе. Все. Все, что ни попросишь.
Малютка-женщина низко поклонилась старику. Пламя плясало вокруг них. Огненный дракон обвивал им ноги. Вздергивал огненную дымящуюся морду.
Женщина, с дитем на руках и со вторым — при подоле, спокойно и равнодушно переступила через колючий хребет огненного дракона и пошла, семеня, быстро перебирая ножками под длинной мешковатой юбкой, двинулась по направленью к Кремлю, и старик увидел, что за плечами у нее висела тяжелая старая винтовка, и оттертый сотней стрелявших рук, засаленный темный деревянный приклад бил и бил ее по худой спине, по торчащей из-под холстины лопатке.
Коромысло медленно, вразвалку, подошел к столу, налил себе в граненый стакан крепкого ямайского рому из початой бутылки, отхлебнул. Он убил этих людей. Они были ему ни к чему, и он убил их.
Он не столько услышал ухом, сколько почуял кожей — дверь отошла от притолоки.
Молнией обернулся.
У двери стоял Люк, наводил на него дуло.
— Здравствуй, друг, — медленно выбросил из себя, как плевые косточки, слова держащий оружье. — Ты думал, что эта музыка будет бесконечной. Нет. Ты ошибся. Ты не заменил вовремя батарейки. И музыке наступил каюк. Ваше время истекло, владыка. Слазьте с вашего поганого трона.
Быстрый выпад. Поворот к стене. Ты хочешь еще спасти свою шкуру. Ты можешь кинуться ему в ноги. А можешь кинуться под ноги и сшибить его на каменный, весь в изморози, пол головой, как чугунной битой — кеглю.
Они рванулись навстречу друг другу. Люк поймал Коромысло за запястье.
— Вынь руку из кармана. Тебе не удастся выстрелить все равно.
Выворот плеча. Захват. Неудачно! Ты не рассчитал, что я угадаю. Люк цепко схватил противника за локоть, держал. Тот извернулся еще раз, взял силой: миг, и ему удалось накинуть на шею Люка удавку своего хищного локтя, и он стал душить человека, стремясь закончить дело скорее. Люк захрипел. Как это все бесславно. Из последних сил он ударил Коромысло ногой в пах. Мгновенье чужой боли, придушенный крик — и вот уже враг под ним, на заиндевелом полу, а он наступает ему коленом на спину, заламывая руки. Вместо голоса из полупридушенной глотки вырывается хрип, сип и бульканье.
— Я твое возмездье, дрянь. Ты хотел сделать себе состоянье на Зимней Войне. Хотел подчинить себе все. Продиктовать правила игры. Мы так не любим. Тебе придется полюбить наши законы.
— У вас нет законов. Вы такие же хищники, как и мы. Давайте договоримся… как зверь со зверем…
— Хватит!
Люк не выдержал. Удар рукоятью револьвера по затылку поверженного. Лежачих же не бьют. Нет, все же бьют иногда.
— Пощади!.. если сможешь…
— Это решаю не я.
— Ты отвезешь меня… в Ставку?!.. там же меня… будут пытать каленым железом… вашими варварскими древними пытками… азийскими… расплавленный свинец в глотку заливать…
— Не исключено. Ты заслужил. Армагеддон горит. Большая честь тебе — сгореть вместе с ним.
— Ты бросишь меня… в огонь?!.. Уж лучше застрели!
Люк сидел на нем, задыхаясь, хрипя, приставив холодное вороненое дуло к затылку, обтянутому черной шерстяной кишкой.
— Я свяжу тебе руки и ноги и брошу тебя в огонь в самом Кремле. Ты сгоришь посреди собственного города. Посреди Града, завоеванного тобой.
А снег все валил и валил, и Ангелы, стоящие на крышах, пели и пели, и выливали из Ангельских чаш своих красное вино на белую землю, и по земле, по снегу текли потоки дымящейся крови среди полыхающего огня, гари и жара; и Кремль стоял посреди Армагеддона, как красная неприступная твердыня, как крепость, еще не умерщвленная, но огонь летел в него крупными каплями, залетал и возжигал его, и вот уже горел Кремль, загорались главы церквей, купола, колокольни, зданья великие, возведенные в нем от сотворенья Руси; и снег летел в огонь, и снег заваливал красные зубцы Кремлевской стены, и в мельтешенье огня и снега было видно, как маленькая женщина с двумя детишками на руках, и с нею рядом — маленький, сгорбленный, лысый, тщедушный, раскосый старичок, в островерхой монгольской шапке, в драном ватном халате, в бурятских туфлях с загнутыми носами, пробираются по снегу, увязая в снегу по самые бедра, от Грановитой Палаты к Успенскому собору. Огненный красный снег бил им в лицо, а ледяной белый снег мотался перед ними белой плащаницей, залепливал им волосы и брови, рты и ресницы; и старичок, раскосый до невозможности — у него от снега глаза превратились уже не в щелки: в паутинки — время от времени подталкивал меланькую женщину в спину, мол, иди, иди же быстрей, а то опоздаем, пламя пожрет, опередит нас, займется огнем огромный собор, и мы не увидим Иконостаса, того чудного, громадного Иконостаса, где нарисована вся наша жизнь, прошедшая, настоящая и будущая, где мы увидим врагов и друзей своих, и все любви свои, и всех внуков и правнуков, и всех солдат Войны. Иди! Иди же! Иди и смотри!
Две фигурки исчезли в снегу. Вокруг собора бушевало, ярилось пламя. Дверь храма была открыта: ветер, огонь, заходите, вы мои самые любезные прихожане.
Малютка с чадами на руках и косоглазый старичок вошли в черный отверстый гроб двери. Снег вошел, ворвался туда за ними. Белые волосы маленькой женщины взвил порыв ветра, смешав косы с метелью.
В черном войске было много тысяч людей. Черные люди шли и шли, и прибывали. И ангелы шли по земле навстречу им, и Ангелы сновали по небу, и серпы сверкали красными кривыми молниями в их руках. Все белое вино пиров было выпито, и все красное вино вечеринок Армагеддона было выпито. И терпение людей иссякло, и терпение Ангелов истончилось. И метель мела, пела и завывала, как тысяча гусляров, играющих на снежных гуслях.
И по стеклянному льду узкой реки, разрезающей Армагеддон надвое, шел зверь, подобьем — волк, и на волке, вцепившись в холку его, во вздыбленную шерстяную шею, сидела, слегка покачиваясь, белокурая женщина. Синее, с золотой блестящей нитью, длинное оборванное платье било ее лохмотьями по голым ногам. Низкий вырез открывал белую, вызывающе выпяченную грудь. Ах ты, худой цыпленок. Изголодалась. Вон какая худая. И блудила, и хвостом вертела, а денег не давали. Все ты денег не заработала.
Женщина сидела верхом на звере и качалась из стороны в сторону, будто пьяная. Да она и вправду была пьяна. Где, в каких забытых подвалах Армагеддона она откопала драгоценное вино? Она качалась на спине волка и пьяно пела о мире, о воле. Она вздыхала, чуть прерываясь, потом опять вдыхала метельный воздух и пела о Войне. Она пела о Войне разухабистые, страшные частушки, и за ней, за мотающимся в метели хвостом волка, что медленно шел по свежему снегу, понурив голову, шли, шатаясь, солдаты Островов, в формах надсмотрщиков и охранников. Они все тоже были вусмерть пьяны. Или они качались от горя, или ослепли от слез своих? Улыбки прорезали их обмороженные лица. Они волокли на плечах ружья, автоматы, огнеметы. Время от времени кто-нибудь из солдат вскидывал ружье и целился. Куда? В кого? В рыжий пляшущий на развалинах огонь? Жизнь умирала, сияла и светилась. Женщина, ехавшая верхом на волке, пела дикую похабную песню, а глаза ее излучали мольбу о прощеньи. Веселые, синие были глаза. Не блудные, не всезнающе-бабьи, — девичьи, ясные.
А пасть угрюмого усталого волка была приоткрыта, и с клыков капала на снег слюна, волк тоже был голоден, может, он жил в клетке и пережил блокаду. А может, охотники отловили его в лесах, связали лапы и принесли в град, и бросили к ногам женщины в синем платье. Ах, синее платье с люрексом! И стрижка каре! И почему ты, певица, оборвав разгульную пьяную песню, запела о какой-то непонятной Лили Марлен, о том, как парень с той Лили Марлен… где-то на задворках… в кабачке… целовался за бутылкой муската, за бутылкой дешевого каберне?!.. А потом они вышли из кабачка, и за углом их ждала засада, их взяли на мушку, их подстрелили… в расцвете лет… и возврата нет… и Лили Марлен уже больше не будет танцевать на столе, на той вечеринке, где…