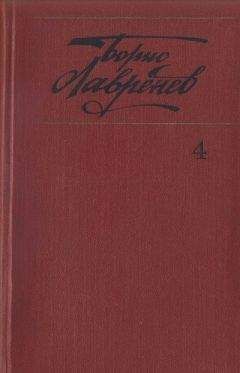Бдительное око кондукторов, боцманов, фельдфебелей, унтер-офицеров ни на мгновенье не выпускает матроса из поля своего благодетельного зрения.
Круговой порукой пропаяна тяжкая цепь этой слежки. За матросом унтер-офицеры, за унтер-офицерами боцмана, за боцманами кондуктор, за кондукторами офицеры, за ними старший офицер — все следят друг за другом по нисходящим ступеням морской табели о рангах.
Снизу доверху корабельного организма проходит эта лестница взаимного шпионажа и недоверия. Только на ней держится то призрачное, угрюмое спокойствие, которое удалось водворить в водах севастопольской бухты после девятьсот пятого года.
Даже в краткие часы матросского досуга, на берегу, вне корабля, не позволяется матросу почувствовать себя человеком.
Сторонкой, бочком, озираясь, он торопится с Графской пристани поскорее проскочить парадные палубы нижних улиц, где на каждом шагу нужно вздергивать руку к фуражке перед встречными белокительными, столбенеть во фронте перед убеленными сединами. Только свернув в щель какого-нибудь трапа, в боковушку, в закоулок — матрос вздыхает свободней.
И сверху, с горки, с ненавистью, сжимая губы, смотрит на чистенькие аллеи Приморского бульвара, куда вход собакам и нижним чинам воспрещен.
Но матрос и сам предпочитает гурьбой, косяками, как керченская сельдь, наводнять буйную Корабельную слободку. Там испокон века селится севастопольская беднота, портовые грузчики, рабочие доков и морского завода. Там усатые греки держат кофейни, похожие на генуэзские пиратские притоны. Там по вечерам заводные органы гудят тоскливыми песнями и, положив голову на руки, уткнувшись лбом в липкую клеенку столика, залитую молодым балаклавским вином, грустя, подпевает матрос органу. Иногда скупые, горючие матросские слезы мешаются на клеенке с вином. Иногда кровь брызжет на столики, красная и теплая, как вино. Это бывает, когда приходят с моря рыбачьи суда или приезжают из Балаклавы, после хорошего улова, молодые банабаки в модных пиджаках, в лаковых ботинках со скрипом.
Не поделят по пьянке девушку, заспорят о морских делах, — кто спорее на греблю или управляться с парусом — балаклавские или флотские, — и летят кверху ногами столики, в брызги рассыпается посуда, лезет под стойку сивоусый Родоканаки, а в воздухе уже мелькают выломанные ножки табуреток, бутылки, ножи, и под ногами дерущихся — хрупкий хруст битого стекла.
Эх, вольная сторонка, Корабельная слобода! Развеселая жизнь матросская, черноморская! В ухо банабаку, скулу набок городовому, боцманмата винным бочонком по загривку, четверо в фаэтон, пятый — гармонист — на коленях, и по слободке с гиком, с зеркальными фонарями, в голубую крымскую ночь, к Малахову кургану, к Килен-балке. В один вечер — дымом кровные копленые матросские денежки, а в полночь на четвереньках на Графскую пристань, на борт на горденях, — унтерцерский кулак в зубы, утром карцер, лихая стоечка под винтовкой с полной выкладкой, на мостике, на чертовом солнцепеке, пока с ковырок не свалит, месяц без берега, и в стриженой матросской башке пушечный гул похмелья.
Развеселая ты, проклятая жизнь матросская на вольной Корабельной сторонке.
Есть чем помянуть лихих братков, кровных сродников: погибших на «Потемкине», «Пруте», «Очакове», на номерных миноносках, на «Иоанне Златоусте», подымая алые флаги, на страх драконам, на погибель царю и империи.
Много зарыто их в безымянных балках за городом, по Инкерманским, Балаклавским, Бахчисарайским трактам, много плавает под зеленой толщей моря у пристаней, у полукруглой эспланады Приморского бульвара, у памятника затопленным кораблям. В серый ноябрьский денек бросались они в ледяной студень воды с горящего борта «Очакова», с разбитых ростр «Прута», под огнем крепостной артиллерии и верных царю кораблей. Многих вбивало в воду снарядами, многих, уже почти доплывших до берега, низали пули забитой, запуганной, мордотыком заезженной пехоты.
Остальных прикрыли решетки тюрем, засосали шахты сибирских рудников.
Белая кость гуляет на палубах, на Приморском бульваре, синий угарный дым ненависти в трюмах и палубах, в кабинках Корабельной слободки.
Одна радость — не ходит белая кость на матросскую сторону, избегают белокительные узких ее переулочков, как черт ладана. Можно здесь, в глухой темени ночи, получить булыжник в висок, ножик в печенку, с размаху, неожиданно, из-за угла. И искать виновника бесполезно. Скроет его непроглядная мгла, кривые петли закоулков, гостеприимные двери рабочих хибарок.
И, угрюмо сутулясь, смотрит с чистой стороны, с постамента на площади перед домом морского собрания, на Корабельную Нахимов, сдвинув фуражку на затылок. Одним глазом, искоса, смотрит он через бухту на северный берег, где в уютной балочке зеленеет единственный в этой выжженной скалистой пустыне фортов и пороховых погребов садовый оазис — дача командующего флотом «Голландия».
Адмирал Чухнин оставил по себе черную славу. Чугунной ступней придавил флот — ни пикнуть, ни вздохнуть. Адмирал не знал жалости, и только одна у него была слабость — к цветам. На даче «Голландия» развел цветники, гроздья роз струились ароматом на клумбах. Нашел адмирал хорошего садовника — матроса Акимова. Шил Акимов в «Голландии», поливал адмиральские розы, и в прекрасное летнее утро, когда вышел адмирал в сад подышать благовонием, садовник-матрос достал из куста двустволку и всадил в главного командира флота и портов Черного моря два заряда картечи.
Темная зелень адмиральского сада, как траурный креп, тревожит глаза офицеров, смутной надеждой ластится к матросскому сердцу.
Так, под обманчивым солнечным блеском, омываемый теплыми волнами, двойной жизнью живет город-корабль, столица черноморского флота.
Под блестящей, но тонкой скорлупой порядка, размеренности, точности, кажущейся монументальности и непоколебимости застывшего ритуала церемоний, уставных статей и традиций глухо и грозно кипят задавленные силы, горячие волны незримо вздымающейся лавы обид, злобы и ненависти.
На одной стороне — сверкание погон, кортиков, орденов, чины, восковые печати родовых жалованных грамот, гербовые страницы дворянских книг, успехи, волшебно смеющаяся жизнь, слава, женщины, прекрасные, как цветы, утонченная романтика любовной игры; на другой — бесправие, темень, безымянность, каторжный матросский труд, кабаки Корабельной стороны, упрощенная любовь в душные ночи в кустах Исторического бульвара, подальше от начальственных глаз таимые, черные мысли.
* * *
От разогретых ступеней Графской пристани дрожащим маревом подымался воздушный ток. В его трепетных струях рябили и колыхались северный берег, бухта, корабли. Катера и шлюпки ежеминутно подходили и отваливали от пристани, как трамваи.
Бухта гремела, грохотала, выла, гудела сиренами.
От доков шел неумолчный пулеметный стрекот пневматических молотков. Неврастенически визжали сверла скрипели мосты кранов, рокотали канаты.
Рейд бурлил мобилизационной суматохой. Он был болен горячкой движения.
Пятеро матросов томительно жарились под отвесным солнцем, присев на дубовые ящики, аккуратно сложенные на нижней площадке пристани. Из-под георгиевских ленточек бескозырок на кирпичные лбы и носы стекали капельки пота.
На пристани было душно и знойно, как в духовой печи.
— Вот гадюки, анафемы! Нет чтобы подумать, что люди, как лобаны на сковороде, жарятся. Сам же, холера его растрави, приказал к часу привести эту муру на пристань. А теперь сиди и жди у моря погоды.
Матрос взял двумя пальцами фуражку за середину чехла и несколько раз приподнял и опустил его, действуя, как мехом. От напора воздуха из-под околыша пот пошел ручейком.
Сосед, меланхолически отдиравший дубовую щепку от ящика крупными железными ногтями, хитро усмехнулся в пышные усы.
— Бачь, — сказал он хриплым баском, — до якой механики чоловик дойти може. Кострецов!.. А Кострецов!.. То, мабуть, ты поддувало до мозгов приспособлюешь?
Кострецов отпустил руку от фуражки и плюнул.
— А поди ты, хохландия, до божьей матери под подол, — отозвался он лениво, — тут в пору сдохнуть.
— А ты божью матерь не чапай. Вона тебе не рожала, так не твоя и хвороба.
Матрос запустил ногти в щель и рывком отодрал полдоски.
Из подвалившей штабной моторки стремительно выскочил лейтенант. На белизне кителя нестерпимо горело серебро аксельбанта.
Матросы вскочили и вытянулись. Небрежно вскинув руку, лейтенант стремглав одолел три марша пристанского трапа и исчез за колоннами.
— Ишь садит полным ходом. Как скипидаром их смазали, — Кострецов угрюмо смотрел вслед офицеру.
— А то як же ж… Война — воно не кулеш варить.
Третий матрос — суховатый, подобранный, щегольской, с очень румяными губами, вскинул глаза на говорившего.