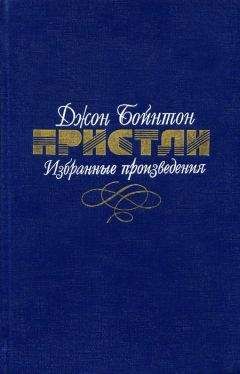«Смета расходов:
Цена печи — 25 148 рейхсмарок, вес — 4637 кг. Цена указана франковагоны, отгружаемые со станции.
По доверенности «И.А. Топф и сыновья»: Зендер, Эрдман, 50001/0211».
Протягивая Вилли эти бухгалтерские документы хозуправления СС, Генрих сказал:
— Ну что ж, скоро нам всем придется расплачиваться по этим счетам!
Вилли недовольно буркнул:
— Это старые бумаги, я приготовил их, чтобы уничтожить.
— Как улики? — спросил Генрих.
Вилли сказал хмуро:
— Я тут ни при чем. Мне приказывали, и я делал заказ, наблюдал за стройкой, платил деньги. — Добавил: — Я честный человек, и никто не посмеет упрекнуть меня, что я брал комиссионные с тех фирм, с которыми имел дело, хотя в коммерческом мире это принято.
— Так почему же вы решили уничтожить эти документы?
— Я еще подумаю, стоит ли. Пожалуй, они могут пригодиться в качестве характеристики моей добросовестности.
— А кому нужна будет такая характеристика?
— Знаешь, — сердито сказал Вилли, — что бы там ни было, фирмы и концерны, с которыми я имел дело, в любом случае не прекратят своего существования. Так было в прошлую мировую войну, надеюсь, то же будет и теперь. Значит, Вилли Шварцкопф может рассчитывать на должность управляющего в одной из тех фирм, с которыми он имел деловые контакты и при этом зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.
— Вы верите в свое будущее, дядя?
— Да, конечно, пока западный мир остается таким, каким он был и до фюрера и каким будет после него. Когда окончится эта шумиха с победой над нами, западным державам придется раскошелиться, чтобы восстановить нашу мощь и снова нацелить ее против Советского Союза.
— Однако вы оптимист, и нервы у вас железные.
— Конечно, — самодовольно согласился Вилли. Хмыкнул презрительно: — Я не Лансдорф. Это он застрелился, как истеричка, когда кто-то из подчиненных доложил ему, что один из его любимцев — якобы советский разведчик.
— На кого же пало подозрение? — поинтересовался Генрих.
— Неизвестно. Лансдорф сжег все бумаги. Слишком уж он кичился своим недосягаемым, как ему казалось, для простых смертных мастерством читать в чужих душах. Готовил мемуары, где изобразил себя как звезду первой величины в германской разведывательной службе. И, наверно, не захотел, чтобы его мемуары оказались подпорченными. Вот и застрелился из авторского тщеславия и старческой болезненной мнительности.
— Значит, никакого советского разведчика не было?
— Конечно. Обычный донос незадачливого сотрудника, ревнующего к преуспевающему.
Пробираясь через развалины рейхсканцелярии в подземную казарму эсэсовской охраны, Шварцкопфы изрядно перепачкали свои парадные мундиры известью и битым кирпичом. В узком коридоре они сняли перчатки, затем прошли каменной лестницей через гараж и встали в медленно продвигающуюся очередь высших чинов рейха, прибывших приветствовать фюрера.
В длинной, как вагон, приемной с низким потолком и обнаженными бетонными стенами, под портретом Фридриха Великого, заключенным в золоченую раму, сидел в кресле Гитлер.
Ноги его, в широких брюках, были широко расставлены, словно он сползал с кресла и хотел удержаться на нем. Картофельного цвета, рыхлое лицо обвисло, оттягивая нижние веки. Волосы влажны и аккуратно расчесаны, как на покойнике.
Громадный, гориллообразный Кальтенбруннер стоял по левую руку от фюрера. Рядом с ним — низкорослый Борман. Его безгубая, с узкой щелью рта физиономия сохраняла прежнее надменное выражение.
Старший адъютант Гитлера, озабоченно склонившись, стоял справа и после каждого рукопожатия незаметно протирал ладонь фюрера ваткой, смоченной дезинфицирующей жидкостью.
Хотя в бункере стояла тишина, в этом затхлом и душном подземелье было трудно расслышать, что отвечал Гитлер на приветствия. Он с заметным усилием, булькающе бормотал какие-то неслышные слова, и его, казалось, бескостное, дряблое тело все ниже спускалось с кресла. Только крупный, грубой формы нос на сером и влажном лице торчал твердо, высокомерно и самостоятельно. Лежащая на подлокотнике левая рука все время конвульсивно подергивалась. И никто не смел смотреть на эту одинокую руку, энергично дергающуюся в то время, как ее владелец обессиленно и вяло сползал с кресла.
Но, когда к Гитлеру подошел Гиммлер и, сладко улыбаясь, начал восторженно приветствовать его, случилось то, чего Генрих Шварцкопф менее всего ожидал от этого полутрупа и о чем передавали лишь в сплетнях-легендах.
Фюрер вскочил, яростный, напряженный, неистовый. Вопя и визжа, он пытался своими скрюченными пальцами сорвать ордена с мундира Гиммлера.
Из нечленораздельных воплей с трудом можно было понять, чем вызвана эта ярость: англо-американские войска обнаружили в концлагере Берген-Бельзен, а также и других лагерях неумерщвленых узников. Эсэсовцы, применяя фаустпатроны, успели убить только часть заключенных, но опаленные трупы не были сожжены.
Гитлер обвинял Гиммлера в том, что тот сделал это нарочно, стремясь помешать завершению переговоров с англичанами и американцами о совместных действиях против Советской Армии.
Гиммлер молча и терпеливо выждал, пока этот приступ бешеной энергии закончился и силы Гитлера иссякли. Воспользовавшись моментом, стал деловито докладывать. Он отдал приказ отправить всех заключенных из концентрационных лагерей Заксенхаузена, Равенсбрюка и Нейенгамма походными колоннами в Любек. Там их должны погрузить на суда, вывезти в открытое море и утопить. Приказ этот уже выполняется.
— И не останется никаких следов? — спросил Гитлер.
— Абсолютно, — твердо заверил Гиммлер. Потом сказал: — Мой фюрер, вы же знаете, — в концентрационных лагерях, расположенных и в самой Германии и на оккупированной территории, содержалось в общей сложности около восемнадцати миллионов человек. Одиннадцать миллионов из них за эти годы были подвергнуты обработке на умерщвление. — Произнес с достоинством: — Мои заслуги и усердие в этом направлении вам известны. — Пожаловался: — Но, к сожалению, в ряде лагерей мой исходящий из вашего повеления приказ не был исполнен. Виной тому роковые обстоятельства, не поддающиеся расследованию: тут и катастрофа с самолетом, в котором летели уполномоченные СС, и многое другое…
Докладывая ровным голосом, Гиммлер замирал от ужаса: боялся, что фюреру стало известно о его тайных кознях и вот сейчас, сию минуту, последует приказ арестовать его.
Шелленберг всячески старался внушить Гиммлеру бодрость и веру в будущее. Он вызвал из Гамбурга астролога Вульфа, и тот составил для Гиммлера гороскоп, в котором была предначертана его судьба: он будет фюрером. Шелленберг подговорил Феликса Керстена, личного массажиста Гиммлера, чтобы тот внушал раскисшему рейхсфюреру, будто ему предназначено стать восприемником Гитлера.
Взбодренный всеми этими внушениями, Гиммлер даже решился просить своего старого школьного товарища Штумпфеггера, чтобы тот сделал Гитлеру смертельный укол, заменив наркотическое вещество в шприце ядом.
Но сейчас, согбенно стоя перед обессиленно, с неподвижными зрачками валяющимся в кресле фюрером, Гиммлер содрогался от ужаса.
Отправляясь к Гитлеру, чтобы поздравить его с днем рождения, Гиммлер засунул себе за щеку ампулу с ядом. И, докладывая, все время ощущал ее у десны. Если фюрер отдаст приказ арестовать его, он чуть шевельнет языком — и ампула окажется на зубах. Сомкнуть челюсти, ампула хрустнет — и все. И он обманет Кальтенбруннера и Бормана, лишит их возможности пытать его, применяя все те способы, которые за долгие годы практики в застенках научился применять он сам…
Фюрер устало махнул рукой. Гиммлер перевел дух и на цыпочках направился к выходу. Лицо его, шея и подмышки были мокры от вонючего, как моча, пота.
На этом прием был закончен. Фюрер устал, заявил адъютант, но пообещал, что обо всех, кто пришел поздравить, будет потом доложено.
В подземном гараже толпились не принятые Гитлером высокопоставленные визитеры, главным образом ближайшее его окружение, его свита.
Среди них Генрих увидел наглого и упоенного собой генерала Фегелейна, мужа сестры Евы Браун. От Вилли он знал, что Фегелейн — сподвижник Гиммлера и ведет с ним какие-то тайные переговоры. Но сейчас генерал со злостью, громко поносил Гиммлера за бездарность, за неспособность уничтожить заключенных в концлагерях. И Гиммлер покорно выслушивал оскорбления, ни слова не отвечая на них.
Фегелейн смолк только тогда, когда в сопровождении своих детей появилась Магда Геббельс: в присутствии особы женского пола были недопустимы те выражения, которые он употреблял, понося Гиммлера.
Оба они — и Фегелейн и Гиммлер — почтительным поклоном приветствовали фрау Геббельс. Потом, словно это не он только что оскорблял Гиммлера, Фегелейн как ни в чем не бывало обратился к рейхсфюреру: