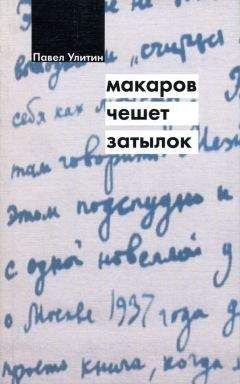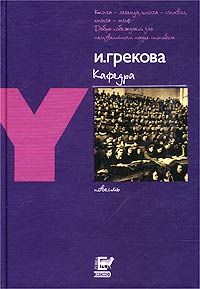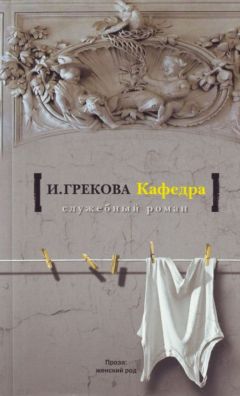— Я не искал.
На столе, задвинутом в угол, на скатерти в пятнах — лоскуток, катушка, иголки, очки в толстой оправе. На коричневом покрывале низкой кровати глубокая вмятина. Окно сплошь затянуто рыженькой занавеской. Лампа светит янтарными волнами, расползаясь по стенам шафрановой рябью, потолок сонно колышется. Обступают шкафы со множеством выдвижных ящиков, как в библиотеке. На краю раковины с грязной посудой висит зеленая резиновая перчатка. На полочке под рукой рулон туалетной бумаги.
«Что все это значит?» — вертится вопрос, как волос на языке.
Мне вдруг представилось, что я барахтаюсь в большом сачке лжи, в этой мягкой воронке из грязной марли, глупый мотылек, треплющий крылышки.
Вновь перед глазами, как встарь, замаячила бурая неровная равнина под серым неровным небом, взрывы, крики, лужи крови, пустые ржавые ведра рядком вдоль окопа…
— Что Островский?
Она встретила вопрос настороженно, покусывая горчичные губы, помолчала, неуверенно взвешивая.
— Его в тот же день зарубил неприятель. А я вот теперь ему произвожу потомство. От боевых схваток к родовым.
Из дыры мохнатого тапочка лезет, как подосиновик, большой палец с накрашенным ногтем.
Чем отчетливее я припоминал поле боя, тем меньше у меня оставалось шансов вернуться в будущее хотя бы для того, чтобы поцеловать Лизу в узкий вырез. Лиза отбрасывала меня назад, в дым и грязь, время уходило у меня из — под ног, как шаткая лестница, я цеплялся за край поля боя, картонный, намокший, расползающийся в клочья.
Она провела ребром ладони по скатерти, сгребая сухие крошки, бросила на пол. Пронзила задумчиво длинной иглой катушку с красными нитками.
— Видишь, я совсем беспомощна. Некому слова сказать, все одна да одна. Родители от меня отказались, я не оправдала их ожиданий. Продаю помаленьку что осталось от Яшеньки, тем и перебиваюсь. Он был такой добрый, доверчивый, мне во всем потакал, рискуя жизнью. А как он любил! В наши нахрапистые времена уже так не любят, прихотливо, вкрадчиво.
И опять — выстрелы, выстрелы, выстрелы…
Я бросился к окну через удерживающее меня движение Лизы, откинул занавеску, но получил в лицо лишь глянцевую черноту, по которой расплылось пористым блином пятно, пялящее на меня мои же глаза. Как быстро поднялась ночь! Сконфуженный, я опять забился в угол и принялся рассказывать ей срывающимся голосом о пяти стогах сена, о Зинаиде, о солдатиках, о перочинном ноже…
— Ты ведь, Витек, не думал встретить меня опять? — перебила Лиза, кокетливо пихнув мягким животом.
И тут же призналась, что пишет стихи, на туалетной бумаге, что — то длинное — длинное со случайными женскими рифмами на — ала, — ила.
— И знаешь, сколько мне заплатили за описание ваших подвигов? На это не проживешь и одного дня!
Пышет жаром откуда — то снизу, из — под стола, из тьмы, как батарея парового отопления.
— Бедный, ты, наверно, весь изранен, изувечен.
Она осторожно дотронулась до моей тужурки.
— Голоден?
Тяжело вскарабкалась на стул и сняла со шкафа картонную коробку с какими — то стеклянными банками, промасленными кульками, свертками.
И хотелось рассказывать незнакомцу в холодном трясущемся поезде, закрывшемуся газетой: «…И на попе у нее сквозила печать лукавства…».
За шкафом неприметно белела дверь в соседнюю комнату. Во время нашего бестолкового разговора Лиза тревожно туда поглядывала, так что у меня появилось подозрение, уж не хоронится ли кто там?.. Я заразился ее беспокойством и напряженно перебирал, кто из моих встречных — поперечных мог бы сейчас распахнуть дверь и войти, прервав нашу беседу, кто подслушивает, затаившись, сжимая кулаки, скрипя зубами?..
Пропуская мимо ушей ее журчание, я считал, сбиваясь со счета, загибая воображаемые пальцы, и получалось, что прошло не больше трех месяцев с тех пор, как я ее видел в последний раз в автомобиле, застрявшем среди свекольных грядок. Когда же она успела так раздаться? Вот незадача! Что — то смешалось в моих перипетиях и перпетуях. Я уже предвидел с содроганием мочевого пузыря, что сегодня ночью в моем беспокойном сне эта неприметная белая дверь с шумом распахнется, и в комнату решительно войдет человек в цивильном костюме, с гладко выбритым лицом несколько обезьяньего типа, подзабытый, в очках. Так вот чем он занимался там, на поле боя, отсиживаясь в воронке, пока мы шли напролом!.. И все, что я так долго и трудно вынашивал — битва, история, подвиги, приказы, выстрелы, — жахнет во тьму беспамятства, как риторический хлам, по буквам, разлетится, рассеется и — не о чем мне будет рассказывать вам, господа.
— Останься со мной, — виноватая детская улыбка скользнула вымученно с увядших горчичных губ и прорезала щеку тонкой морщинкой. Влажно блеснул припухший серп нижнего века, дрогнул, встрепенулся.
— Не могу.
— Не хочешь? — вздохнула она машинально и, раздвинув колени, придерживая живот, полезла куда — то под скатерть, в темноту, достала мешочек, как оказалось — с трофеями.
— Хотя бы возьми что — нибудь с собой на память…
И до сей поры меня не отпускает скорбное выражение ее маленькой лживой руки