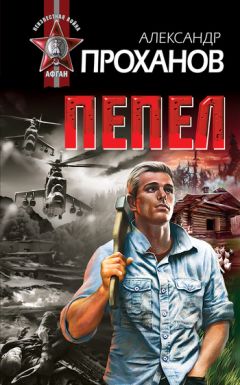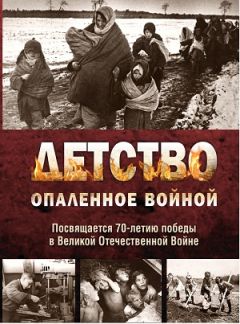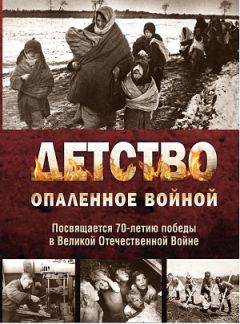– Давай, Андреич, пиши в накладную сто шестьдесят штук, да мы поехали, – весело торопил Ратников.
– Пересчитаем, поедете, – сказал Суздальцев.
– Да на хрен считать. Пиши сто шестьдесят, не ошибешься.
– Посчитаем, тогда напишу.
Ратников был возмущен, сердито раздувал щеки, зло щурил маленькие зоркие глазки.
– Хочешь считать, считай. Я уже раз нагрузил, второй раз корчиться не буду.
Суздальцев, понимая, что его снова испытывают, видя насмешливое лицо шофера, толстые, по-бабьи гладкие щеки Ратникова, полез в кузов и стал по одному выкидывать веники на землю, ведя им счет. Веники мягко пружинили под ногами; пахли лесом, холодным, уснувшим в прутьях соком. Он бросал их вниз, стараясь не сбиться со счета, и раздраженно, тоскливо думал. Это он, знаток восточных языков, изучавший тонкости иранской поэзии и религии, баловень преподавателей, защитивший диплом с отличием, пренебрег всем этим, чтобы стоять в кузове зашарпанного грузовика, считать дурацкие метелки под насмешливыми и наглыми взглядами подвыпивших мужиков. Он выкинул на землю последний веник. Их оказалось не сто шестьдесят, как уверял Ратников, а всего лишь сто десять.
– Записываю, сто десять, – зло сказал он, раскрывая накладную, прижимая ее к капоту грузовика.
– Да на хрен тебе, Андреич, эта морока. Сто шестьдесят, сто десять – один хрен. Мужикам выпить охота, – развязно произнес Ратников, сплевывая на землю.
Этот презрительный плевок, злые блестящие глазки, насмешливые губы водителя вдруг вызвали у Суздальцева вспышку бешенства.
– Воровать не дам! За каждый пень, каждый прутик ответите! Так и скажи остальным! – и он грязно выругался, изумляясь этой грязной свирепой ругани. Он думал, что Ратников возмутится, ответит бранью. Но глазки лесника весело замерцали, он захохотал, обнажая ржавые зубы:
– Ну, ты, Андреич, даешь! Это не мы, это бабы так посчитали. Пиши, как знаешь, – и он стал подбирать веники, перекидывать их через борт. – Да, слышь, чего хотел сказать-то. Ты вон с ружьем ходишь в лес, а все пустой. Тебе нужна собака, лайка. Чтоб белку искала, рябчика. Есть у меня для тебя собака.
Это были слова примирения, которыми восстанавливалась их дружба и субординация.
– Что за собака?
– Лаечка молодая. Себе бы оставил, да мне тяжело по лесу с ружьем. Свое отстрелял. А тебе по дешевке продам, как начальнику.
– За сколько?
– Червонец. По дружбе, и как начальству.
– По рукам, – строго, как, должно быть, в подобных случаях говорят в народе, произнес Суздальцев.
– Слово кремень, – Ратников продолжал закидывать веники, которые в Москве, насаженные на длинны древки, превратятся в метлы, и московские дворники станут скрести ими улицы и подворотни. И Суздальцев заметил плутовское веселье, промелькнувшее на краснощеком лице лесника.
Он вернулся в избу, удрученный этой внезапной вспышкой бешенства, мерзкой, излившейся из него руганью. Огорченный, опустошенный, ушел за перегородку и лег на кровать, слыша, как отъезжает грузовик. Не глядел на стол, где лежала стопка опасных листков.
Петр задремал и проснулся в сумерках от громких голосов. Из темноты своего закутка, сквозь отдернутую занавеску, видел освещенную комнату, половики, неизменного черного кота и тетю Полю, которая разговаривала с гостьей. На гостье был надет короткий щегольской тулупчик, модные красные сапожки, она сидела на сундуке, положив рядом с собой мужскую кротовую шапку. Ее круглое молодое лицо было миловидным, с маленьким носом, тонкими выщипанными бровями, под которыми мерцали полные слез голубые глаза. Под левым глазом начинал багроветь, наливаться свежий синяк. Она жалобным плачущим голосом говорила:
– Да он зверь, пьяный пес! Чуть не по его – за топор и гоняется. Я детишек к матери в город отправила, чтобы они этот срам и ужас не видели. Сейчас пришел, и ну меня нюхать, оглядывать, каким я мужиком пахну. Начал бить, и с топором. «Зарублю, говорит, а куски твоим хахалям разбросаю». Не могу я больше, тетя Поля, нету сил!
– А ты, Кланя, на себя посмотри, может, ты виновата. Зачем мужа дразнишь? Тебя с лесорубами на лесосеке видали. С бригадиром Копейкиным куда-то в «газике» ездила. С солдатами прошлый год в лесу гуляла. Народ видит и Семке твоему докладывает. Какому мужу понравится?
– Да брешут все люди, тетя Поля, брешут. Ну, дразню я его, вид подаю, что есть у меня любовник. Не люблю я его, тетя Поля. Он, как волк злой, от него ночью бензином и железом пахнет. Наработается на грузовике, в сельпо бутылку купит, разопьет с мужиками и является домой злой, как черт. Бросается на меня с кулаками.
– А ты, Кланя, попробуй с ним по-хорошему. Приласкай, приголубь, какой-нибудь подарок ему сделай. Свитер ему купи, а то ходит в драном. Хорошую еду приготовь. Он ведь, Сема, смирным парнем был, аккуратным, приветливым. На гармошке играл. В самодеятельном театре участвовал. После армии стал другой. В каких-то атомных войсках служил, может, там мужскую силу свою потерял. Ты его лаской, добротой. Может, сила к нему вернется.
– Ненавижу я его, тетя Поля. Ночью просыпаюсь. Он рядом храпит, винищем от него несет. Думаю, встану, возьму нож кухонный и зарежу. Боюсь я себя, тетя Поля.
– Тогда вот что я тебе, девка, скажу. Сложи в кулек вещи и беги с его глаз долой. Иначе быть беде. Зарубит он тебя топором, сам в тюрьму пойдет, а детишек в детский дом сдадут. Послушай меня, Кланя, здесь большой бедой пахнет.
– Так и сделаю, тетя Поля, как говоришь. Сейчас соберу в кулек вещи – и к матери в город, с последним автобусом.
Поднялась с сундука, поправила растрепанные русые волосы, мельком глянула в старое зеркало, надела кротовую шапку и пошла к дверям, звонко цокая сапожками. Было слышно, как стукнула в сенях дверь.
Петр лежал в темноте и думал, что еще одна судьба, завязанная в свирепый узел, предстала перед ним. И он, взращенный мамой и бабушкой в нежности и любви, оказался среди трагедий и распрей, раздиравших мир, который издалека казался ему привлекательным и чудесным.
Они чаевничали с тетей Полей под оранжевым абажуром, который он купил в сельпо, закрыв голую лампочку. Тетя Поля подливала из чайничка бледную, с вялыми чаинками заварку, посмеиваясь и приговаривая: «Чай жидок». Наливала в блюдце, подносила к губам и громко отхлебывала, закусывая ломтиком сахара.
– Вишь, Кланька гулящая. Не может, чтоб не гульнуть. А мужик мается, с топором за ней бегает. Пока ты девка, гуляй на здоровье, а уж коли вышла замуж, терпи. Держись мужа до смерти.
Она вздохнула и посмотрела на стену, где висело множество блеклых фотографий. Свадьбы, крестины, похороны. Серьезные крестьянские лица, позирующие рядом с женихами, младенцами, покойниками. Какие-то солдаты, железнодорожники, шоферы с женами, детьми и племянниками, среди которых уже не найти тетю Полю. И отдельно от этой, застекленной в общую раму мозаичной фотографии – суровый усач с худым недобрым лицом и недвижным больным взглядом, покойный муж тети Поли.
– Иван-то Михалыч как строг был со мною, обижал, бил. Любовница у него была в городе, а я терпела. Потому да прилепится жена к мужу своему. Он мне в отцы годился. Пришел с германской войны, сапожник был замечательный. Кругом девок было много красивых, а он меня из нищей семьи взял. Я его любить не любила, а уважала. Он меня в живот бил, когда я на сносях была, вот мои деточки и рождались мертвыми. Там же на горе рядом с могилой Ивана Михалыча схоронены. Скоро и я к ним пойду, и снова семья образуется.
Суровый недобрый мужчина с солдатскими усами смотрел на них из деревянной рамы, и Суздальцев представлял, как рядом на горе, под громадными березами и косматыми вороньими гнездами стоят кресты, к которым тетя Поля на Пасху приносит крашеные яйца и ломти кулича.
Тетя Поля убирала со стола и готовилась ко сну, а он вышел на прогулку.
Дул ровный холодный ветер. Было звездно, льдисто. Земля под ногами, недавно жидкая, скользкая, казалась железной, и подошвы чувствовали металлические комья. В избах, незанавешенные, светились окна, наивно и простодушно открывая взгляду жизнь обитателей. Синел и дергался экран телевизора, освещая мигающим светом мужское лицо. В другом окне сидели за столом; женская рука поднимала половник, переносила в тарелку суп. В третьем окне шалили дети, и было видно, как мать беззвучно на них кричит, гонит спать.
Петр пробрался по проулку к реке. Веря, черная, без блеска, текла в черных берегах, слабо отражая звездное небо. Он прошел за село, где в бурьян вросли какие-то старые сваи, остатки старинных сараев и овинов. Тут же находилась разрушенная кузня, кирпичный остов с решетником кровли. Сквозь слеги холодно и недвижно смотрели звезды. Он остановился у кузни, чувствуя исходящий от нее запах старого железа, угля и окалины. Видимо, там еще сохранились остатки горна, ржавая наковальня, брошенные поковки. Звезды молча, ярко, словно выкованные из железа, блестели сквозь деревянные жерди. И казалось, здесь, в этой старой кузне работали кузнецы, которые сковали весь этот мир с железным сверкающим небом, железную мертвую землю, недвижную реку. Весь мир изошел из этой старой кузни, как из умершего остывшего лона, был издельем неведомых кузнецов. Петр испытал тоску и необычайную щемящую боль, словно он один остался среди этой железной Вселенной, без тепла и без света, последний живой человек среди мертвого мирозданья. И кто-то немой, суровый смотрел на него сквозь жерди и ждал, что он станет делать в своем одиночестве, как станет умирать под железным блестящим небом. Суздальцев почувствовал, как его лба коснулись ледяные железные персты, и это прикосновение проникло в его живое теплое тело и остановилось около сердца. Он возвращался домой, неся в себе это леденящее прикосновение.