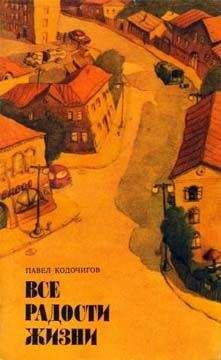8. Безногий
Тамару застудили. Покашляла она несколько дней, помаялась в горячечном бреду — и затихла.
Мать обмывала умершую, забыв выгнать на улицу маленьких и не замечая их немых ртов, копившегося в глазах ужаса и непонимания. Лицо ее было сосредоточенно и горестно, руки деловиты. На Тамару не скатилась ни одна слезинка — если бы все дети, которых мать выносила под своим сердцем, выжили, их было бы пятнадцать. Умирали в мирное время, в тепле и сытости, а уж тут, как говорят, сам бог велел.
Из чужих досок, чужим молотком Гришка сколотил маленький ящик, в него положили Тамару и отнесли в соседнюю деревню Великое Село, где было кладбище. Гришка ломом выдолбил небольшую ямку, лопатой выкидал из нее мерзлую землю и снег, еще чуть углубил, и в этой ямке, на чужом кладбище, о чем больше всего горевала мать, предали земле не успевшую сказать и слова младшенькую.
С первого дня на новом месте пошла в котел капуста. Она, пусть и мороженая, хороша на заправку, а если варить без конца и краю одну капусту, добавлять к ней всего лишь несколько ложек муки, такое варево даже голодному не на радость. Желудок вздувается, тяжелеет, а есть все равно охота, хочется хлеба, картошки, каши, репы, чего угодно, кроме осточертевшей капусты.
Как-то ночью, приняв гумно, в котором фрицы держали лошадей, за склад боеприпасов, наш летчик сбросил на него бомбу. Убитых лошадей немцы оттащили в поле и бросили. Появилось мясо. Притащат мать или Гришка кусок, не уследят, так кто-нибудь схватит сырое — и в рот. Из чугуна, еще не проваренное, выхватывали и глотали, не прожевывая, чтобы не отобрали. Маленькие оживали, кричали и даже дрались при виде еды. В остальное время были ко всему равнодушны, не разговаривали, не смеялись и даже не плакали. На их тусклые, как у стариков, глаза, поникшие головы и молчаливые рты было страшно смотреть.
Поговорку о том, что голодному все лепешки снятся, Гришка слышал давно, но смысл ее понял лишь в Дедовой Луке, где большую часть дня, чтобы сохранить силы, все лежали, грея желудки поджатыми к ним коленями, не в силах избавиться от видений только вытащенных из печи духовитых буханок хлеба, пышущих жаром высоких горок блинов, полных кринок молока и сметаны, желтых, поблескивающих на солнце кусочков масла. Мать запрещала говорить о еде, но и сама иногда не сдерживалась и начинала вспоминать, как пекла пироги, жарила баранину, свежую печень, почки, грибы, сало. Гришку сводили с ума закопанные в Валышево сухари. Он думал о них целыми днями, они снились ему длинными зимними ночами, и чудилось, что сухарей осталось много и, если их принести, семья будет сыта целый месяц. Может, даже больше. Конечно, больше, если сухари не грызть, а брать в рот и ждать, пока они растают. И потому, когда в баньку зашел председатель колхоза и предложил сходить за едой в Валышево, в глазах мальчишки зажегся азартный огонек. Мать запротестовала:
— Чего надумал, Никифор! Приспичило, так иди, а Гришку не отпущу! Связался черт с младенцем!
— Напрасно ругаешься, Мария, я же не неволю, — покладисто сказал председатель и, согнувшись в дверях пополам, вышел.
Гришка — за ним. Всегда ли в его возрасте, когда и самостоятельность появляется, и убеждение в собственной безопасности не подвергается сомнению, слушают матерей?
Пошли. Большую часть пути миновали благополучно. Налегке шагается быстро, и время в разговоре летит незаметно.
Перед Гусино, справа, показалась группа фашистских солдат в белых маскировочных костюмах. Остановились, посмотрели на Гришку и председателя, но стрелять не стали.
— Разведчики! — тихо, будто его могли услышать, сказал дед Никифор. И еще тише: — Не повернуть ли нам восвояси?
Мальчишка подумал о том же, да сухари опять словно увидел, запах их почувствовал, забытый вкус размягченного в кипятке хлеба и, сглотнув голодную слюну, упрямо затряс головой:
— Нет, дед Никифор, мне обязательно надо дойти до Валышево.
Председатель потоптался на месте, однако пошел за ним.
Снег близ Гусино весь в черных пятнах свежих воронок, между ними виднелись трупы немцев и красноармейцев.
— Вот оно как! — снова остановился дед Никифор. — Брали, выходит, но опять не удержались. Эх ты, мать честная!
Дома в деревне стояли непривычно редко. На месте двух свежих пожарищ в солнечное небо вились серые клубы дыма...
— А вдруг наши еще в Гусино? Давай посмотрим, а? — нетерпеливо ухватил за рукав председателя Гришка.
— Скорее, на немцев нарвемся.
— Так не видать же! Пошли, пошли, дед Никифор. Не бойся.
Они поднялись от реки к началу улицы, и тут из-за угла показались два эсэсовца в черных шинелях, с автоматами на груди. Встреча была неожиданной для тех и других. Замерли на месте председатель и Гришка. Остановились эсэсовцы — откуда здесь русские, почему? Тот, что повыше ростом, впился в мальчишку острым взглядом, поманил к себе. Гришка поднял глаза на председателя — подойди ты, ты же взрослый! Эсэсовец понял его намерение:
— Наин! Кнабе! Кнабе!
Мальчишка не шевельнулся. Взбешенный неповиновением эсэсовец пружинисто подошел сам, ткнул автоматом председателя — отойди! — что-то отрывисто заговорил, тыча пальцем поверх головы мальчишки. Выхватил из ножен кинжал. Гришка втянул голову в плечи, зажмурил глаза. Почувствовав под носом что-то шершавое и холодное, разомкнул веки — фашист тыкал в лицо отрезанной шишечкой красноармейского шлема, который он, убегая из дома, натянул на голову вместо шапки... Снова замелькал перед глазами кинжал, задергался из стороны в сторону, вверх и вниз великоватый для Гришкиной головы шлем.
Как фашист ухватил его за шиворот, как он скользил по льдистому снегу, обдирая в кровь руки после крепкого пинка, мальчишка узнал от председателя, когда пришел в себя и увидел, что на нем нет меховых рукавиц.
— Так фриц же забрал. Не помнишь разве? — перехватив взгляд мальчишки, сказал председатель. — Шлем ему твой не понравился, из-за него все получилось. Ты-то ладно, а я, старый дурак, почему не подумал об этом? Посмотри, что он со звездочкой сделал.
Гришка стянул с головы шлем. Зеленая звездочка на нем была перерезана крест-накрест и наполовину ободрана.
— Пойдем-ка обратно, ну их к шуту, — сказал председатель.
— П-пойдем, — согласился мальчишка, — т-только отдышусь маленько.
Дрожащими руками он натянул шлем, кое-как застегнул пуговицу и стал ждать, пока пройдет страх. Он начинался почему-то всегда в животе, потом подкатывал к горлу, туманил голову.
— Вставай, хватит сидеть, — подогнал дед Никифор. Мальчишка поднялся. Страх еще не прошел, но он уже мог преодолеть его.
— Дед Никифор, мне на свою деревню взглянуть охота, — протянул Гришка совсем по-детски. — Хоть одним глазком!
— Ну и неуемный же ты! — рассердился председатель. — Ладно, посмотри, а я здесь подожду. Ноги, понимаешь, вроде как судорога стянула.
Гришка стал подниматься улицей в гору и у дотлевающего дома увидел красноармейца. Он палкой подгребал к себе угли. Обе ноги бойца были оторваны. Сквозь тряпки, которыми были замотаны обрубки, проступала кровь.
— Вы ранены? — спросил Гришка.
— А ты не видишь?
Старое лицо красноармейца было худым и черным. Глаза лихорадочно блестели. На скулах бугрились желваки.
— Как же вы теперь?
— У угольков не замерзну, а ночью уползу к своим.
— А где они?
— Сходи и посмотри, — на что-то рассердившись, сказал раненый.
Гришка эти слова воспринял как приказ и побежал в гору. Взбежал наверх, не таясь, и сразу упал, пополз обратно от засвистевших над головой пуль. Красноармейцы окопались совсем недалеко, за шоссе, а в Валышево были немцы. Рассказал об этом раненому. Тот выругался:
— Вернусь, я им, сволочам, покажу! Взяли деревню, так зачем драпать? Добегались уже, хватит!
Вернусь... Это еще когда будет, а мальчишку интересовала сиюминутная судьба красноармейца, и он спросил:
— Немцы вас видели?
— А куда я от них спрячусь?
— И в плен не забрали?
— На кой черт я им такой нужен? Решили, что я без них сдохну. — Раненый говорил тяжело, с хрипом. Передохнув, продолжал: — А я до-тя-ну-у до вечера и уползу-у! — Заметив в глазах Гришки сомнение, угрожающе произнес: — Ты вот что, парень, не смотри на меня так и иди туда, откуда пришел. Нечего меня раскиселивать.
— Я хочу помочь вам, — потянулся мальчишка к безногому.
Тот рассердился еще больше:
— Чем? Чем ты мне поможешь? Уйди, ради бога, с глаз долой!
Безнадежное положение раненого оттеснило собственные злоключения. Гришка понимал, что безногому может помочь только врач, но все равно чувствовал какую-то и свою вину перед беспомощным человеком, которого он покидает, вынужден покинуть, не оказав никакой помощи. Вернулся к председателю хмурым, долго шел молча, потом спросил: