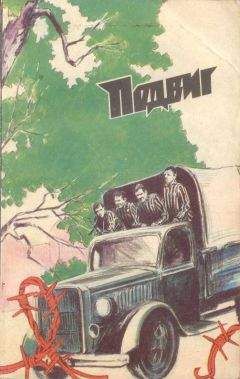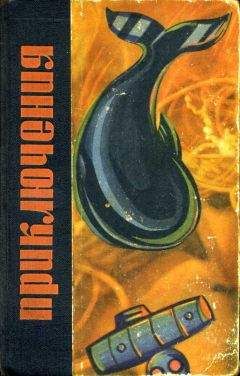Отдельно, в можжевельниковом кустарнике, уложив шинель на пружинистые, плотные ветви, спал Лёвушкин. Гонта тронул его за плечо. Разведчик тотчас же вскочил, словно подброшенный кустарником, как катапультой. Он тряхнул головой, и сон слетел с него вместе с хвоей и листьями, запутавшимися в волосах.
— Пойдёшь в Чернокоровичи. Возьми парикмахера: он здешних знает… Если там всё в порядке, махнёшь с околицы пилоткой. Нам к Калинкиной пуще поле пересекать. На виду у деревни! Так что сам понимаешь.
— Ясно! — Лёвушкин сунул за пояс трофейную «колотушку» и отправился к Берковичу: — Пошли к родичам, парикмахер!
Тот одёрнул серую шинель, оглянулся на одинокую тощую фигуру Топоркова:
— Прямо взяли и пошли! Сначала доложусь.
— Не надо, — усмехнулся Лёвушкин. — Гонта распорядился.
— Тем более!
И Беркович побежал к Топоркову, остановился напротив и даже попытался изобразить классическую строевую стойку.
— Товарищ майор, разрешите отбыть в разведку! — Он косил взгляд на стоявшего неподалёку Гонту, догадываясь о сложностях, возникших в отношениях этих двух людей.
Лёгкая, пролётная улыбка коснулась лица Топоркова, чуть дрогнули края глаз и уголки бледногубого рта.
— Идите, Беркович, — мягко сказал майор.
И парикмахер, круто повернувшись, затрусил за Лёвушкиным. Вот уже его маленькая сгорбленная фигурка исчезла в кустарнике.
Клочья тумана расползались по холму, как овечье стадо. Лес кончился, впереди лежала тёмно-серая, перепаханная когда-то, но уже заросшая сорняком земля. За холмом, на берегу реки, темнело несколько десятков изб, а ещё дальше, километрах в трёх или четырёх, начинался новый лес, казавшийся отсюда, с опушки, густым и заманчивым. Но обозу, чтобы дойти до него, требовалось пересечь открытый участок.
— Вон то и есть Калинкина пуща? — спросил разведчик. Беркович кивнул и, вытянув шею, продолжал вглядываться в крайние дома. Он словно чего-то ждал.
— Молчат, — сказал вдруг он растерянно. — Как ты думаешь, Лёвушкин, почему они молчат?
— Кто?
— Петухи… Раньше, бывало, за версту слышно… Знаменитые были петухи. Хор Пятницкого так не пел!
— Сейчас многие не поют, кто раньше пел, — философски заметил разведчик.
— Может, спят ещё?
— Ничего, — Лёвушкин сунул за пояс трофейную «колотушку», — разбудим!..
Диковинна и загадочна связь великих и малых явлений в мире войны: вот Беркович, сутулый штатский человек, страдающий гастритом, парикмахер, руки которого изнежены от многолетней возни с бриолином и паровыми компрессами, и, пожалуйста, — на Берковиче немецкая офицерская шинель с плеча белокурого обер-лейтенанта из Пруссии, а в руках не машинка для стрижки, а совсем иного рода механизм: тяжёлый тупорылый пистолет-пулемёт системы товарища Шпагина, скорострельностью тысяча выстрелов в минуту.
Перед Берковичем — деревня, где живёт его собственная тёща, тётя Ханна, которая бы прямо руками всплеснула от радости, завидев знакомые оттопыренные уши зятя, круглые, как диски ППШ, но Беркович вынужден прятаться в кустарнике, совсем неподалёку от дома тёщи, а потом, словно шелудивый бездомный пёс, ползти к дому тёщи на животе…
На самой окраине Чернокоровичей они отдышались, а затем Лёвушкин подбежал к крайнему дому и, извиваясь бесхребетным телом, нырнул в дыру в заборе, за ним полез и парикмахер.
Сквозь окно с выбитыми стёклами они заглянули в избу. Изба была пуста. На них пахнуло плесенным духом.
Лёвушкин просунул голову в приоткрытую дверь хлева. Пустые коровьи ясли… пустые насесты… ни одного живого существа… И улица была пустынна, как в дурном, страшном сне.
Полные тревоги, встав почему-то на цыпочки, они перебежали к следующему дому.
— Эй, тётя Ханна! — крикнул Беркович. — Отзовитесь!.. Он вошёл в большую, наполненную сквозняками, дующими из пустых окон, комнату. Увидел обломки грубой, домашнего изготовления мебели, подобрал бутылочку с надетой на горлышко соской… По комнате летал пух, играл в догонялки. Беркович вышел из избы и опустился на крыльцо.
— Значит, это правда? Значит, они никого не оставляют? Даже в сёлах? А-а-а… — пробормотал он, обхватив голову руками. — Ведь жили же здесь люди, тесно жили, один к одному, как у человека зубы, и никто друг другу не мешал! И немецкие колонисты — да, Лёвушкин, и немцы, и русские, и украинцы, и белорусы, и поляки, и никому не было тесно, всем была работа… А какие ярмарки были здесь, Лёвушкин, какие ярмарки! Каждый привозил чем гордился, что умел делать: и ты мог выпить немецкого густого пива, и купить глечик или макитру у украинского гончара для коржей или белорусской картошки на семена — какая была картошка! Или купить хорошие цинковые ночвы у старого еврея, чтоб купать своего младенца; ты не купал младенца, Лёвушкин, ты не знаешь — это же такая радость!
— Ты посиди, — сказал Лёвушкин и дотронулся рукой до шинели Берковича. — Ты отдохни.
И он пошёл по пустой улице, мимо безглазых домов. На околице остановился и замахал пилоткой.
Сверху ему было хорошо видно, как из лесу вышел Гонта, а следом потянулись телеги.
— Не торопитесь! — командовал Гонта. — Колёса не побейте на пахоте!..
И телеги замедлили свой ход, поползли тихо, как утки, переваливаясь из стороны в сторону…
Лёвушкин проводил взглядом обоз.
Всходило солнце. Великолепная красная краюха легла на полузаваленный плетень возле дома старого Лейбы, профессионального собирателя щетины и прорицателя-общественника.
И тут произошло явление невероятное, удивительное.
Закричал петух. Облезлый, малорослый, со свалившимся набок гребнем, покрытый пылью каких-то неведомых закоулков, одичавший, сверкая свирепым глазом, он вскочил на плетень и заорал.
Он ликовал, он испытывал непонятное петушиное вдохновение и орал так, словно взялся подтвердить славу голосистых чернокоровичских петухов, дабы не исчезла она из памяти человеческой.
Лёвушкин в изумлении открыл полнозубый рот:
— Гляди-ка, уцелел!.. Разве что на суп хлопцам?.. Стукнуть, а? — И Лёвушкин с несвойственной ему нерешительностью снял с плеча автомат.
— Уцелел! — прошептал Беркович. — Хоть он-то от фрицев уцелел!
— Партизанский петух, — подтвердил Лёвушкин и не без сожаления закинул автомат за плечо. — Чёрт с ним, пусть гуляет. Заслужил!
И в эту секунду, в паузе петушиного пения, где-то далеко за селом глухо взревел мотор.
Лёвушкин обернулся и увидел, что из низинки к Чернокоровичам движется тяжёлый трёхосный «даймлер», в кузове которого однообразно, в такт, колышутся кепи егерей.
Взгляд Лёвушкина метнулся в другую сторону. Там, по пахоте, шли партизанские телеги. Шли очень медленно, чтобы не побить колёса. Семеро партизан не предполагали опасности со стороны деревни…
— А, чёрт, — с тоской сказал Лёвушкин и увлёк Берковича за дом. — Надо их остановить. А то к обозу вырвутся…
Хищно оскалив рот, он ещё какое-то время смотрел на взбирающийся на пригорок «даймлер», а потом решительно сунул руку в карман своих кавалерийских галифе, шитых на Добрыню Никитича, извлёк оттуда кусок проволоки и принялся деловито и ловко через рифлёные корпуса привязывать лимонки к «колотушке».
— Становись за углом, — сказал он парикмахеру. — Как только ахнет — сразу очередью по кузову и на огороды, к реке. Может, утечём…
Телеги переваливались через твёрдые как камень, сухие глыбы земли. Иной раз какая-нибудь упряжка застревала, и приходилось всем миром наваливаться и враскачку выталкивать её из борозды или из глубокой промоины.
Кони были мокрые, бока их вздымались, как кузнечные мехи.
— Загоним коней… Эх, загоним… — причитал Степан, перебегая от одной телеги к другой.
— Да заткнись ты… пономарь! — зло сказал Гонта, рукавом куртки смахивая с лица пот. — Людей бы пожалел!..
«Даймлер» плотно, уверенно хватал просёлок чёрными разлапистыми колёсами. Солдаты, сидевшие в кузове, смотрели тупо и прямо, борясь с дремотой. Грузовик въехал в узкую улицу деревни, и гулкое эхо заиграло среди пустых домов.
Румяный егерь с ефрейторской лычкой на погонах, сидевший над самой кабиной, вдруг встал и, указывая рукой туда, где виднелись партизанские упряжки, завопил и застучал по кабине.
Шофёр прибавил ходу. Прямой клюв ручного пулемёта вытянулся в направлении обоза. Вразброд, Как настраиваемые инструменты оркестра, заклацали затворы.
…Металлическая коробка по названию «даймлер», наполненная солдатскими судьбами, как воскресная авоська алкоголика пустыми бутылками, подъезжала к дому, где стоял Лёвушкин.
В обозе тоже услышали гул мотора и увидели приближающийся к домам грузовик.