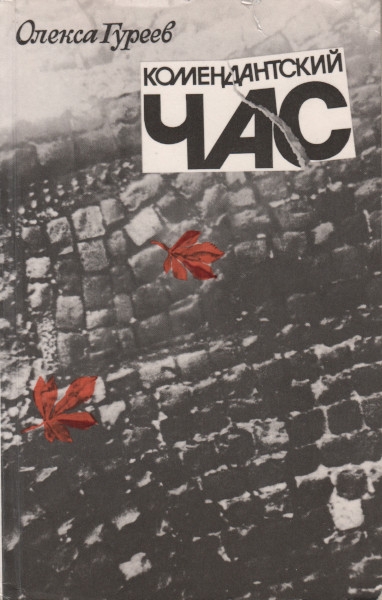скрывать от любимого свою измену — это мученье. А семья у них, по-видимому, была бы хорошей, с Ритой надежно, легко. И характером, и внешностью она прекрасна. Жаль ее. Еще одна судьба, изуродованная войной. Будьте же вы трижды прокляты, фашистские изверги!»
Сердце плачет от боли.
А взгляну лишь в окно —
Вижу милого Толю,
Он с другою давно...
Это стихотворение Рита не дочитала. Сперва ткнулась лицом в тетрадь, которую поддерживала ладонями, потом склонилась головой на стол, ее тело задрожало от приглушенных, сдерживаемых рыданий. Инна встревожилась.
— Оставь, ну что ты, не надо так, — успокаивала подругу, обнимая ее, гладя ей голову. — Не надо плакать. Думай о том, чтобы скорее вернулись наши, чтобы твой Толя был жив и здоров. А там будет видно, что у нас получится, как все сложится. Рита, милая, да не плачь же, не надо. Мы ведь собрались отметить Восьмое марта. Если он и оставит тебя, то все равно будет любить, потому что ты прекрасна. Хуже, когда бросают разлюбив. Мы все страдаем, Рита. Но должны крепиться. Давай укладываться, скоро начнет светать. Перестань же! Слышишь?..
Рыдания начали утихать. Точно буря — налетела, прошумела и унеслась прочь. Рита еще не поднимала головы, но уже не всхлипывала. Минуту-другую сидела неподвижно. Потом молча закрыла тетрадь и принялась стелить постели.
Шел четвертый час ночи. Снова начали бить зенитки...
Этот вечер, проведенный у Риты, как бы открыл для Инны новую страницу жизни. Исчезло одиночество, она нашла себе подругу — то, чего ей так не хватало в оккупированном Киеве. Теперь будет с кем отвести душу, поделиться и радостями, и печалями, вместе помечтать, не боясь лукавства и предательства. Она чувствовала себя почти счастливой. Иногда, правда, мучило сознание, что она сидит в бездействии, ничем не помогает нашим, но это должно остаться на совести Третьяка, Прилуцкой, закрывших перед нею дорогу к подполью. Пусть закрывают. Время покажет еще, может, и они с Ритой совершат нечто значительное.
Так думала Инна, не подозревая, что вскоре один за другим на нее посыплются новые тяжелые удары.
Буланый захирел, он уже не мог подолгу стоять на ногах, бока запали. На него жалко было смотреть. Голова напоминала грубо сбитую коробку, обтянутую кожей, шерсть вздыбилась. На каждый скрип двери он оглядывался, надеясь, что его наконец накормят досыта, но каждый раз получал все меньше и меньше. В последний раз он был сыт дней десять назад, когда ходил на села. Там вдосталь было соломы, нежного сена, иногда перепадал и овес. В его преклонном возрасте тяжело было выдерживать расстояния в пятьдесят — шестьдесят километров, но он никогда не заставлял своего хозяина прибегать к кнуту — понатужившись, тянул сани сколько мог. Теперь конь больше спал, и тогда ему снились прекрасные сны. Маленьким жеребенком он тыкался мордочкой в мягкое вымя матери, пил густое, словно подслащенное молоко. Снились и более поздние времена, когда уже работал до седьмого пота, но ел вдосталь, летом пасся в ночном на душистом лугу между лесом и рекой Ирпень. Снилось, как стоял в теплой конюшне вместе с другими лошадьми, как от яслей тянуло дурманящим запахом сена... Это были сны, а когда пробуждался, первое, что напоминало о себе, — был голод. Из последних сил поднимался на хилые ноги, совал морду в ясли в надежде, что туда уже что-то положили, но там было пусто. Начинал грызть доски, грызть все, что можно было грызть и жевать, но острота голода не проходила, даже была еще более мучительной, и затем наступало полное бессилие. Снова ложился на бок на земляной пол, откидывал голову и засыпал, и снова ему виделись радужные сны...
Очередной рейс по селам Киевской области Третьяк и Валя намечали на середину марта, но из-за Валиного ареста поездка не состоялась. Тем временем скудные запасы корма для Буланого кончились, а выкроить что-либо из крайне ограниченного семейного рациона было невозможно. Сами ели картофельные очистки, — маленьких брусочков хлеба, который получали по карточкам — двадцать семь граммов на человека, не хватало.
Да и выпекался этот хлеб, черный, как земля, наполовину из кукурузных кочанов, остальное ячмень и просо. (Городская управа советовала киевлянам питаться дикими каштанами.) Непрерывно росли цены на рынке. Если в феврале килограмм хлеба стоил сорок пять рублей, то в марте — уже более ста, цена ржаной муки с сорока пяти рублей за килограмм поднялась до семидесяти. К тому же и купить все это было не просто. Население игнорировало так называемые украинские карбованцы и остмарки, которые выпустил эмиссионный банк, — эти деньги не имели никакой стоимости. Газета «Нове украiнське слово» и еженедельник «Последние новости» время от времени печатали объявления такого содержания: «Валютой на украинской земле отныне будут считаться карбованец и остмарка. Кто не будет принимать этой валюты, понесет строгое наказание». И все же население предпочитало непосредственный товарообмен. Если же на базар выходили сбывать какие-то вещи немецкие солдаты — продавали белье, мыло, зажигалки и прочее, — они тоже не принимали украинских карбованцев, требовали только марки.
(К осени 1942 года килограмм хлеба в Киеве стоил уже 200 — 250 рублей, стакан соли — 200 рублей, килограмм масла — 6000 рублей. В то же время зарплата рабочих составляла 8 — 10 рублей в день.)
Голодное ржание Буланого терзало Третьяку сердце. В отчаянии бросал в теплую воду порцию пшенной каши, которая полагалась ему на обед или завтрак, добавлял пригоршню отрубей и шел кормить животное. Сена уже не было совсем. Конь жадно глотал это пойло, вылизывал ведро и снова смотрел на хозяина укоризненно просящими глазами. Его потускневший взгляд как бы говорил: «Еще! Еще немного! Я умираю от голода. А мне же надо работать. Разве я не заслужил большей ласки от тебя? Ты посылал меня в метель, в стужу, и я шел...»
Но кормов больше не было, и Третьяк только расчесывал пальцами гриву Буланого, спутанную и слежавшуюся, щеткой счищал землю, прилипшую к впавшим бокам.
— Я, дружище, тоже голодный, — говорил он животному. — Потерпи еще немного, может, удастся продать тебя. А у другого хозяина будет еда. Да и весна уже не за горами, травка взойдет. На, попробуй патоки, ты ее любишь. Если когда-нибудь разживусь, я тебе полный мешок