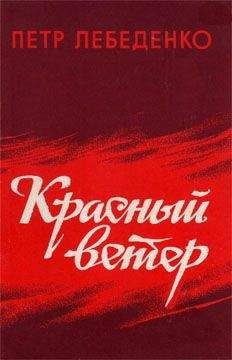Он так и умер, светло взглянув на мир, в котором прожил всего восемнадцать лет. Ровно через год после его смерти анархиста Родригеса привезли, тяжело раненного, в госпиталь, и он, передвигаясь по палатам на костылях, рассказывал солдатам:
— Его звали Матьяш Маленький. Он был из Венгрии. Если бы не этот человек, не знаю, что вышло бы… Мы тогда собрались бросить фронт и идти в Барселону… А он…
У Родригеса спрашивали:
— Он тоже был анархистом?
Родригес отвечал:
— Он был коммунистом… Если после войны я останусь жив и у меня родится сын, я назову его Матьяшем… Матьяшем Маленьким….
4
Много, много в те дни барселонского путча вот так же, как Матьяш Маленький, погибло солдат Республики. Но, хотя и большой ценой, анархистов все же удалось удержать на Арагонском фронте, избегнув тем самым немалых бед. Центральное правительство бросило в Барселону из Валенсии части республиканской полиции и несколько подразделений солдат, временно снятых с Харамского фронта.
Путч был подавлен. За короткое время этого мятежа было убито почти тысяча человек и более трех тысяч ранено… Барселона вновь зажила прежней, удивительной жизнью: на эстрады поднимались известные танцоры и певцы и, прежде чем начать исполнение номеров, снимали с плеч винтовки и ставили их в уголок, поближе к себе; смотреть «Чапаева» и «Мы из Кронштадта» ходили тоже с винтовками и карабинами, словно это были необходимые принадлежности, как плащи и головные уборы; вечерами на Барселонской набережной андалузские токадорес под гитары пели народные песни Испании, парни и девушки прямо на асфальте отплясывали севильяну, а ночью то-и дело можно было слышать, как фалангисты кричат в темных переулках: «Арриба, Эспанья!» — «Выше, Испания!» — и вслед, за этим выстрелы, крики раненых и предсмертные стоны убитых. Наемные убийцы — пистольеро, — сея панику, стреляли в прохожих с чердаков, по улицам на бешеной скорости проносились автомашины, из которых уголовники и фашисты из «пятой колонны» строчили по толпам гуляющих пулеметными очередями…
И в то же время в тавернах, кафе, ресторанах — женщины, смех, веселье… Барселона, оставалась Барселоной, городом самых удивительных контрастов и городом самой удивительной красоты.
Но барселонский путч, каким бы коротким он ни был, все же показал, что опасность для Республики таится не только на, многочисленных фронтах — неспособность правительства Ларго-Кабальеро предвидеть и предвосхищать подобные взрывы могла дорого, обойтись народу Испании. Под давлением коммунистов, социалистов, и левых республиканцев Кабальеро ушел в отставку, и новое правительство сформировал и возглавил социалист Хуан Негрин. Это было самое устойчивое правительство, и если бы в нем пост министра обороны занимал не такой человек, как Индалесио Прието, который не только не верил в победу Республики, но и противился созданию истинно народной армии, оно было бы и самым боевым.
С другой стороны, провал барселонского фашистского путча не на шутку встревожил главных покровителей Франко — Гитлера и Муссолини: несмотря на кризис, созданный этим путчем, Республика жила, ее моральный дух еще больше закалился, и она готова была сражаться до конца.
Однако слишком крупные карты фашизм поставил на Испанию, чтобы бросить Франко на произвол судьбы. И Гитлер, и Муссолини прекрасно понимали: стоит им оставить фалангистов один на один с республиканцами — и Франко в ближайшее же время будет раздавлен. Допустить этого они не могли. Проклиная незадачливого генерала, терпящего одну неудачу за другой, они вновь и вновь слали в Испанию тысячи своих солдат, сотни самолетов и танков, огромные транспорты с винтовками, снарядами, пушками, бомбами и патронами…
Вскоре благодаря небывалому движению миллионов простых людей во многих странах мира в защиту Испанской республики французское правительство вынуждено было открыть франко-испанскую границу. Там, во Франции, стояло немало боевой техники, закупленной Центральным правительством не только у французских военных промышленников, но и в других странах.
Казалось бы, теперь ничто не должно помешать переправить самолеты, танки, пушки и винтовки через границу — за все это было заплачено испанским золотом, граница открыта на законном основании, законные владельцы закупленного высылают своих представителей, и те готовы немедленно начать отгрузку… Но не тут-то было! «Двести семей» Франции — самые мощные магнаты, которые фактически руководили внутренней и внешней политикой страны и ставленники которых, естественно, занимали немаловажные посты во всех министерствах, — делали все для того, чтобы затормозить, а то и вовсе сорвать отправку боевой техники через границу. Премьер-министр Франции Шотан (правительство Леона Блюма накануне пало) и премьер Великобритании Невиль Чемберлен (Болдуин к этому времени уже ушел на покой) занимали нейтральную позицию: ничего не видим, ничего не слышим, ничего не знаем. Дело это, мол, частное, коммерческое, сами во всем разбирайтесь…
Тем не менее оружие в Испанию все же начало поступать. Офицеры республиканской армии вместе с преданными Республике людьми — коммерсантами, чиновниками, военными специалистами — развернули кипучую деятельность на территории Франции. Здесь все средства были хороши: подкупы лиц, от которых зависел исход переговоров о скорейшей отгрузке оружия, крупные взятки тем, кто пытался вставлять палки в колеса, речи в морских портах перед докерами и моряками: «Фашизм угрожает не только Испании! Международная реакция хочет задушить свободу народов на всех континентах! Или интернациональная солидарность — или коричневая чума, которая расползется по всему миру!..»
Французы давно уже чувствовали опасность фашизма, но теперь им все чаще приходилось видеть его лицо. Новый премьер Франции Шотан, правительство которого почти сплошь состояло из «умиротворителей», под видом наведения порядка в стране налево и направо отдавал приказы разгонять антифашистские демонстрации и силой подавлять политические стачки, но в то же время сквозь пальцы смотрел на все более распоясывавшихся молодчиков из организаций типа «Боевые кресты» и «Аксьон францэз». А те наглели не по дням, а по часам. И уже не стеснялись среди бела дня встречать колонны демонстрантов с дубинками в руках, врываться в квартиры рабочих и устраивать погромы. Все чаще в Сене вылавливали трупы людей, осмелившихся открыто выступать против разгула реакции, и, как правило, в полицейских отчетах по этому поводу говорилось: «Покончил жизнь самоубийством…»
Встревожились и многие из тех «денежных мешков», кто еще недавно требовал от правительства быстрее покончить «с нарастающей угрозой красной заразы»: пользуясь материальной поддержкой фабрикантов и заводчиков, фашисты тем не менее не очень-то с ними церемонились.
Так, однажды в кабинете самого Вивьена де Шантома, одного из директоров концерна заводов авиационного моторостроения, появились двое неизвестных молодых людей. Они без приглашения уселись в креслах, как по команде извлекли из карманов сигары, закурили, и тот, который был постарше, сказал:
— Меня зовут Матье. Матье Роллен. — Он засмеялся, показав красивые белые зубы. — Не Роллан, а Роллен. А моего друга — Ивон Готбу.
— Я вас слушаю, — подавляя приступ бешенства, вызванный развязностью этих непрошеных гостей, буркнул де Шантом. — Чем обязан?
— Пришли поговорить по душам, господин де Шантом. — Матье Роллен небрежно стряхнул пепел с сигары прямо на дорогой ковер. У него были большие глаза цвета свежей ржавчины и такие же волосы, гладко зачесанные назад. — Вы не возражаете?
— Я спрашиваю, чем обязан? — повторил де Шантом. — Должен предупредить, что не располагаю временем для долгих разговоров.
Рядом с креслом, на котором сидел Матье Роллен, стоял невысокий стульчик, обитый голубым бархатом. Иногда, оставшись в кабинете один, Вивьен де Шантом позволял себе физически расслабиться, давая отдых всему телу. В такую минуту он придвигал к своему креслу этот стульчик, снимал туфли и, положив на бархатную обивку ноги, долго сидел в позе человека, мирские заботы которого остались далеко позади.
Сейчас, заметив стульчик, Матье Роллен поставил его перед собой и бесцеремонно водрузил на него свои ноги в больших башмаках с резиновыми подошвами. На улице шел дождь, тротуары были грязны, и теперь на голубой бархат стекала черная жижа.
Вивьен де Шантом побурел от гнева. Ему, конечно, следовало нажать кнопку, вызвать швейцара и приказать вышвырнуть вон этих двух негодяев; ему, наконец, надо было прикрикнуть на них, показав, что он здесь хозяин и никому не позволит вести себя так в его кабинете, но де Шантом, в упор глядя на резиновые, похожие на протекторы шин, грязные подошвы, не мог оторвать от них взгляда, чувствуя, как волна бешенства заполняет все его существо и ему становится трудно дышать. Он даже приподнял руку и вспотевшей ладонью потер левую сторону груди, одновременно облизав языком вдруг пересохшие губы.