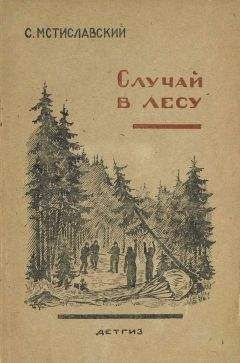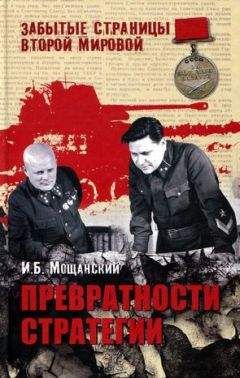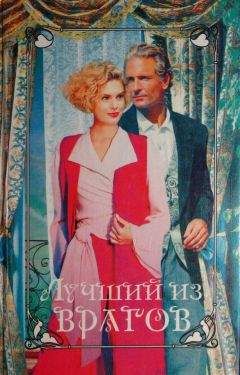...Аккуратненькая всегда, миловидная, косы этак коронкой – вокруг головы. Помнится, в пионерском галстуке еще приходила. Черт знает что. Немецкий капитан какой-то, герр гауптман, то ли физик, то ли шпион, еще и с путчистами этими путался... подозрительнейший тип, неудивительно что СМЕРШ сделал стойку. И Людмила Земцева. Тьфу, мерзость... Может, наврал белесый майор? Да нет, какой смысл придумывать такое...
Да, год назад бледная погань держала бы себя иначе. Особенно-то они и тогда не стеснялись; вспомнился идиотский вопрос какого-то щелкопера на недавнем приеме: «Ощущаете ли вы, господин генерал, что армия теперь пользуется у партийного руководства большим доверием, чем в предвоенные годы?» (Переведите господину корреспонденту, что вопрос считаю в высшей степени некорректным; Красная Армия неотделима от народа, от партии и, естественно, всегда пользовалась у руководства полнейшим доверием. Фигляр, тебе не в газете работать, а проявлять резвость мысли где-нибудь на подмостках.) Не стеснялись и во время войны, но все же по пустякам не усердствовали сверх меры. Ну а теперь-то уж чего стесняться! Теперь на повестке дня опять бдительность, не утратил же силу пресловутый закон обострения классовой борьбы по мере роста успехов.
Напиться бы, подумал он с тоской и убрал бутылку в шкаф. До беспамятства, чтобы сразу долой из головы все – и белесый майор, и примерная девочка Люся, вступившая в половую связь с офицером вермахта, и генерал-полковник Николаев. Он-то в первую очередь. И нечего себя обманывать насчет того, откуда этот привкус омерзения; а ведь пытаешься, делаешь вид, будто омерзение от рассказанного майором. Люда Земцева тут не при чем. Вступила, так вступила, вопрос сугубо личного характера, весьма интимный, постороннему об этом судить нельзя. А если любила? Не в Люсе дело. И не в майоре, конечно, мало ли он повидал этой погани, пора было привыкнуть, да он и привык. К себе не привыкнешь, вот что худо. К себе – каким стал, каким тебя сделали...
Покойный брат был человек редкостного везенья, Татьяниному отцу везло во всем, даже умереть сумел в удобный момент – в тридцать шестом (на самом пороге: годом позже, по всей вероятности, главный инженер «Востсибмаша» уже не удостоился бы некролога в «Социндустрии», мог фигурировать в публикациях совершенно иного рода). И со стороны – если не вникать – может показаться, что везенье это он унаследовал от Виктора вместе с племянницей. От «ежовых рукавиц» его спасло то, что слишком долго засиделся в майорах; как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Командующий его невзлюбил (за «интеллихэнтность», скорее всего), действительно не давал ходу, и в определенный момент это неожиданно сработало в его пользу. Шло уже великое «оздоровление кадров», Дом комсостава опустел на одну треть (мог бы и наполовину, да начальство рангом повыше обитало в других домах), а ему вдруг дали бригаду, наградили медалью «XX лет РККА», потом послали в Монголию – везение продолжалось. Так это выглядело со стороны, если не вникать.
А если вникнуть, то была и другая сторона. Даже получив Героя, он не обольщался относительно прочности своего положения, в случае чего, Золотая Звезда защитой не оказалась бы, других не защитили и маршальские. Поэтому – положение обязывает! – приходилось соответствовать. Приходилось оправдывать доверие. Где-то проголосовать «за», где-то промолчать, где-то, наоборот, выступить – все это, как правило, вопреки тому, что думал. Да, да, и вопреки совести, если называть вещи своими именами. А была ли возможность поступать иначе?
Возможность-то, положим, была; не было смысла. Ведь ни в одном случае – поступи он иначе – ничто не изменилось бы ни на йоту, а погубил бы он не только себя. Что сталось бы с Татьяной? А на бригаду поставили бы очередного болвана из выдвиженцев, неспособного командовать ротой. Как раз в те годы именно этот тип «командиров» стремительно попер на верха, словно прокисшее тесто из квашни...
Словом, оправданий – вполне логичных, ни с какой стороны не возразишь – всегда находилось предостаточно. Потом и нужда в них отпала, стало немыслимым даже представить себе, что вообще возможна иная линия поведения. Привыкли? А остаточное чувство стыда, если оно порой и ощущалось, всегда можно было нейтрализовать этаким легким цинизмом – что ж, если армию и называют «школой мужества», то ведь отнюдь не гражданское имеется при этом в виду. Есть к тому же старое мудрейшее правило: коли угораздило попасть в волчью стаю, учись подвывать не хуже других.
Так почему тогда взыграло вдруг самолюбие, откуда эта гадливость к самому себе? Аналогичное тому, что он сделал сейчас, приходилось делать и раньше, тут ничего принципиально нового; сейчас тоже ничего не изменилось, никакое его ручательство не могло бы изменить к лучшему судьбу Людмилы Земцевой. Точно так же проголосовал он когда-то за исключение из партии комдива Иващенко, отлично зная, что выдвинутое против Иващенко обвинение в национализме – высосанный из пальца вздор, исключение из партии было пустой формальностью перед арестом, это он тоже знал, судьба комдива была решена, что изменилось бы, проголосуй один какой-то майор «против»... Да, но это было перед войной. До войны это было, вот в чем дело.
За четыре года все-таки поотвыкли. Не то чтобы вообще не приходилось поступать против совести, против чувства долга, против здравого смысла, наконец; но внутренний конфликт возникал, как правило, по вопросам чисто военным, это куда проще. Ведь приказы не обсуждаются, получил – выполни, а про себя можешь протестовать сколько душе угодно. Совесть все равно остается чиста: поступил по уставу. В армии так было спокон веку, так есть, так будет всегда. На то она и армия.
Да, на войне было легче. Николаев постоял перед шкафом, раскрыл дверцу, налил еще с четверть стакана, выпил и снова запер бутылку – теперь уже на ключ. На войне было, в общем... хорошо. Легче, проще. Погани было меньше. Правда, воевали не всегда так, как хотелось бы (и как могли бы), но что делать! Если война есть продолжение политики, то именно политика будет всегда определять конечное решение любой военной проблемы. Это логично. В конце концов, не исключено, что даже берлинская бойня – совершенно бессмысленная с точки зрения чисто военной – была и впрямь нужна как элемент некой политической стратегии. Возможно, и так. А воевалось все-таки хорошо, подумал он с тоской. Хорошо воевалось, особенно под конец. Прорыв под Цоссеном, например, – он видел его своими глазами, находясь в боевых порядках 11-го мехкорпуса; наблюдательный пункт был оборудован на полусбитой снарядами колокольне и давал отличный обзор. Экипажи действовали превосходно, и такая безупречная слаженность была во всем ходе штурма, в четком взаимодействии родов войск, что он тогда (странная аналогия!) почувствовал себя вдруг дирижером, управляющим всем этим гигантским, великолепно сыгравшимся оркестром – артиллерией поддержки, идущими за огневым валом танками с мотострелками на броне, ИЛами, которые точно по графику, минута в минуту, возникали откуда-то сзади и прямо над головой, туго ударив звенящим ревом, уносились в косо освещенную закатом дымную даль, прожигая ее тусклыми короткими молниями ракетных трасс...
Устало поскрипывая сапогами, генерал-полковник пересек просторный кабинет, отдернул портьеру, визгнув кольцами по медному пруту, рванул створку застекленной от самого пола двери. В саду было темно и тихо, пахло дождем, мокрой зеленью, какими-то незнакомыми цветами. Цветы, тишина, мир – все было незнакомо и непривычно, настораживало, таило в себе угрозу. Да, подумал он, на войне было легче. Кощунственная мысль, но что толку обманывать самого себя? Мы все будем еще вспоминать эти четыре года как лучшее, что было когда-нибудь в нашей жизни.
В Энск поезд пришел холодным октябрьским утром. Было воскресенье, на привокзальной площади галдела и орала патефонными голосами барахолка, пыльный ветер рвал выгоревшее кумачовое полотнище «Слава воинам-победителям», рупоры на столбе ликующе громыхали маршем Дунаевского. Люди толпились и на трамвайной остановке – значит, трамваи уже ходят? Таню это удивило, она никак не ожидала увидеть трамвай, бегущий по улицам разбитого, разрушенного Энска. Трамвай был приметой довоенного благополучия, чего-то мирного, почти сказочного...
Неужели это возможно – опять войти в желто-зеленый вагончик, постоять на задней площадке, может быть, даже прижаться носом к холодному стеклу, чтобы совсем почувствовать себя там, в юности, в сороковом или тридцать девятом... А потом потрогать рукой шершавые стволы акаций на Пушкинской, раскрыть калитку... Вдруг Люся вернулась? Да нет, вряд ли, давно бы уж написала. Но все-таки почем знать, пойти надо в любом случае...
Охваченная нерешительностью, Таня замедлила шаги у углового полуразрушенного дома. От здания остался один нижний этаж, внутри заваленный рухнувшими перекрытиями двух верхних, но веранда, на которой когда-то стояли столики (здесь было кафе-мороженое) уцелела, была даже расчищена для каких-то целей, и на ней стояла притащенная неведомо зачем облезлая садовая скамейка. Таня поднялась по ступенькам, села, поставив у ног чемодан. Пыльный смерч пересек трамвайные пути, закручивая вихорьком мусор и обрывки газет. Было необычно холодно для начала октября, но она сейчас не ощущала холода, ей было жарко от волнения – все-таки она дома, все-таки вернулась, видит наяву эту площадь, так часто снившуюся ей в Эссене, а потом в Аппельдорне... Она не могла понять логики этих снов – ей никогда не снился ни Дом комсостава, ни Пушкинская, и школа ни разу не приснилась. Всегда почему-то эта площадь – иногда похожая на довоенную, иногда не имеющая с ней ничего общего, но даже в этом случае она всегда знала, что это привокзальная площадь в Энске; хотя как раз с этим местом не было связано у нее никаких воспоминаний – разве что одно-единственное, тот ее приезд из Москвы, девять лет назад. Тогда был вечер, блестел мокрый асфальт, она стояла возле машины, куда водитель в черном танкистском бушлате засовывал чемоданы, и пахло бензином и прорезиненным Дядисашиным плащом, и дождь косо летел мимо белых молочных фонарей, и было детство. Все было тогда впереди, все, и знакомство с Сергеем в энергетической лаборатории Дворца пионеров, и тот вечер первого сентября, и ушедший с сортировочной станции эшелон, и немцы, и Кирилл, фотографировавший развалины...