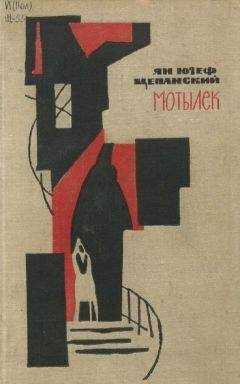Там она наклонялась над тетрадью, улыбалась, встряхивала душистыми волосами, говорила, дышала, жила в ореоле очарования, в ореоле волнений, в ореоле чарующей чуждости.
* * *
Он не переставал этому удивляться. Ходил в невиданном облаке обаяния, которое придавало каждой вещи новый вкус, новые краски. Он боялся, что привыкнет, но не привыкал. Облачко не улетучивалось, колеблющаяся ясность была тут же, на границе каждого выдоха. Иногда это мучило его, иногда пугало.
На уроках танца они уже разучивали танго, слоуфокс и даже румбу. Взаимные провожания становились все более длинными. Каждая из учившихся на курсах девочек светилась отраженным светом Ксении. Однажды он чуть не рассмеялся, когда, встретив на улице высохшую пани Вечорек, должен был глубоко вздохнуть, чтобы успокоить внезапное сердцебиение.
Ксения жила в новом районе, великолепные корпуса которого вытесняли из города покосившиеся заборы и беседки садовых участков. Улица была застроена только с одной стороны. Вечером ее освещали два фонаря, покрывая стеклянным блеском голые ветви, торчащие из-за высокого забора напротив. Асфальт обрывался сразу же за последним домом, дальше шла узкая тропинка, петлявшая между лабиринтом участков, вся в выбоинах и черных лужах. Мало кто ходил по этой улице. Кроме ее постоянных жителей — служащих различных промышленных синдикатов и объединений, — здесь можно было встретить только пожилых людей в измазанных глиной сапогах, с граблями, тяпками или с корзинками, полными травы для кроликов.
Когда они первый раз подходили к дому Ксении, из мрака, бренча и звеня, вырвался велосипедист. Неожиданно повернув руль, он влетел на тротуар и остановился в свете фонаря, преграждая им путь.
Худой плечистый мальчик в белом свитере, с коротко остриженными, торчащими над лбом волосами, опираясь ногой о педаль и повернувшись к ним смуглым лицом, задиристо смотрел на Михала узкими глазами.
— Станко, не задирайся, — сказала Ксения таким голосом, каким девочки наказывают своих кукол.
Паренек сверкнул зубами, описал велосипедом дугу и, пронзительно свистя, помчался в направлении темных садиков. Со всех сторон из-за заборов ему отвечали таким же свистом.
— Это один чех с нашей улицы, — объяснила она. — У него здесь своя банда.
В один из вечеров Михал осмелился взять Ксению под руку. Это получилось у него неожиданно легко: приглашающий ловкий жест, уверенная улыбка — такая же, как у чернявого Юрека. А потом, после минутной неуверенности, удивительное спокойствие, как будто уже что-то выяснилось, как будто пала какая-то преграда. Он разговаривал, шутил, словно это было чем-то совершенно обычным, вместе с тем все время чувствуя необычность ситуации, что, однако, не делало его несчастным, а наоборот — придавало ему красноречия. Сейчас это спокойное ошеломление внезапно угасло.
— Почему он так себя ведет, этот Станко?
Ксения рассмеялась. Они были уже у ее подъезда.
— Он ревнует, — сказала Ксения.
Ревнует. Но что это значит? Может быть, потому, что он, Михал, победил, а может быть, потому, что у него есть какие-то права, о которых он имеет право напоминать. И почему он так быстро уступил? Достаточно было нескольких слов, сказанных таким тоном, каким девочки разговаривает с куклами. Может быть, они так хорошо понимают друг друга, потому что ему нечего бояться? Может быть, этот свист был не протестом побежденного, а насмешкой победителя? Еще вчера Станко не существовал, и вот внезапно он стал для Михала чем-то очень важным, почти близким (в том особом смысле, в котором всякая чуждость была ему близка). Михал думал о нем с каким-то тревожным интересом. Он видел его в момент воинственной стойки — в секунду неожиданного появления из мрака, в котором он до этого находился и в котором он тут же исчез, но уже как существо, раз и навсегда доступное чувствам и воображению. Станко был прекрасен в своей агрессивной ловкости, злом блеске улыбки. Он был олицетворением вызова. И это тоже было в нем волнующе прекрасно. («У меня есть соперник», — думал Михал, дрожа от возбуждения.) Но особенно волнующим было сознание предпочтения, которым он пользовался, живя на этой улице, в атмосфере ее очарования. Потому что улица пахла волосами Ксении. Могло показаться, что терпкий аромат сжигаемых в садах листьев забивает запах ее волос, но каким-то чудесным образом этот дым был пропитан их запахом, подчинялся ему, делал его еще более дурманящим. Разве можно было перед этим устоять? Между уроками танцев недели зияли тоской перерыва. А ведь там было место, насыщенное ее присутствием, место волнений и приключений. Таящийся в темноте Станко со своей бандой, затененный теплый свет лампы в знакомом окне на втором этаже.
— Михал, куда ты бежишь?
Он оборачивался в дверях, с шапкой в руке, настигнутый, но полный решимости вырваться даже силой.
— К Збышеку, за книгой.
— Михал, куда?
— На сбор.
— Михал, куда ты идешь в такое время?
Он хлопал садовой калиткой и убегал как угорелый. По улице Ксении он шел крадучись, вдыхая с благодарным удивлением ароматный воздух. Осень была дождливая, и вечерами чаще всего шел дождь, но это ему не мешало. Это было даже разумно — мокнуть в холодном мраке, стоя напротив света и тепла, исходящих из ее убежища. Этого требовал дух жертвенности. Он зорко высматривал Станко. Станко был драконом, стерегущим вход в заколдованную страну. Однажды Станко проскользнул мимо него. Он бежал со стороны площади, пиная ногой мяч. Он вел мяч в вечернем мраке, темный блестящий мяч, по влажному асфальту, бежал за ним трусцой, как собака, подпрыгивая и легкими ударами отпасовывая другому мальчику, а тот сразу же возвращал его назад. Они были целиком поглощены этим, как будто вели важную беседу или исполняли какой-то сложный танец. Наконец Станко вбежал в какие-то ворота, остановился, низко наклонив голову, раскорячился, широко растопырив руки, и крикнул: «Бей!» — и тут второй ударил изо всех сил, а Станко бросился на летящий мяч, схватил его, с коротким стоном прижал к груди и исчез в глубине двора.
Михал почувствовал облегчение и одновременно разочарование. Ему показалось, что Станко не справляется со своей ролью. Вместо того чтобы подстерегать его, он беззаботно играет. Обыкновенный щенок. Видимо, не понимает важности происходящего, не принимает его всерьез.
Он, Михал, жил исключительно этим. У четвертого окна направо от небольшого балкона был иной свет — розовый и мягкий, словно пар. Это, очевидно, торшер, а комната, наверно, наполнена нежными, как пух, вещами, цвет которых поглощает свет лампы. Там находится она, как птица в уютном гнезде, погруженная в свое обаяние, не зная о преданно стерегущем ее взгляде.
Он медленно ходил взад и вперед в тени забора, не отрывая взгляда от окна, следя и за другими окнами квартиры, где разыгрывалась таинственная пантомима жизни ее семьи. Он уже знал круглую лысую голову отца, и худую, двигающуюся как во сне тень матери, и растрепанный, похожий на гриву жеребенка чуб младшего брата. Они двигались по прозрачным экранам занавесок, сжимались и вытягивались на стенах, переломленные наискось, вползали на белые потолки, проделывая неожиданные движения — то медленные, то оживленные загадочным, словно весело разыгранным буйством. Они напоминали рыб в аквариуме, надолго застывающих в странной задумчивости, а потом вдруг снова начинающих плясать без видимой причины. Иногда кто-нибудь из них действовал самостоятельно. Михал с напряжением наблюдал за выразительной жестикуляцией, направленной, казалось, в пустоту, пока над рампой подоконника не поднималась отрицающая или утверждающая рука невидимого слушателя либо вырастал, как из люка на сцене, весь силуэт с каким-нибудь жестом или кивком, являвшимся ответом на неслышимые слова. Носили какие-то предметы, уплывали вглубь, снова приближались, вечно занятые какими-то дискуссиями, какой-то игрой с неизвестными правилами и целями. Случалось, что одна из занавесок была отодвинута, а иногда даже было открыто окно. Тогда изображения приобретали размеры, движения утрачивали плавность (хотя по-прежнему оставались случайными), появлялись шокирующе конкретные детали — блеск лысины, цвет лица, часть висящей в глубине картины, на которой, кажется, было изображено вспененное у темных скал море. Но все это становилось еще более загадочным, так как было неоднородным, подчиняющимся одновременно законам двух несоединимых миров.
Особые эмоции вызывали у Михала всякие отступления от вечернего ритуала, когда, например, на сцене появлялся кто-то чужой или когда представление происходило не в том окне, в котором он предполагал его увидеть, среди еще не очень хорошо освоенного воображением реквизита. Разумеется, он ждал ее. Тот факт, что она была как бы за скобками этих мистерий, что она показывалась чрезвычайно редко и всегда только на заднем плане, в каком-то сдержанном скольжении, вовсе его не удивлял. Вся эта церемония и без того касалась ее, происходила вокруг нее и в ее честь, она же должна была сохранять дистанцию, не могла опрощаться, не могла быть доступной даже для них.