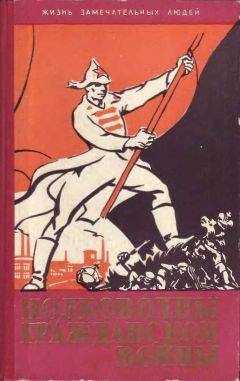Мои больные мысли о смерти и уничтожении человека, проходя сквозь эти воспоминания, выходят на берег ясные и светлые. Так и наши рубашки, посеревшие от долгой носки, тоже светлели, когда мы их стирали в речной воде, взбаламученной войной.
Я знаю, все мои мысли о разных глупых вопросах, о смерти возникают оттого, что я вынужден сидеть в стороне от жизни. Если бы я не лишился у Перекопа левой ноги и правой руки, — тогда мне, против своего обыкновения, пришлось долго пролежать в осенней степи, — я, без сомнения, еще сегодня крутился бы в таком радостном вихре жизни, что мне некогда было бы заниматься ненужными размышлениями. Но кбгда человек сидит в стороне, ему в голову лезут всякие мысли — и дельные и пустяковые. Впрочем, нельзя сказать, что я сижу без всякой работы. Гунар Гайгал ходит в школу, по вечерам я ему помогаю готовить уроки. Кроме того, отовсюду, где я когда-то воевал, мне пишут партизаны о всех своих радостях и горестях, во имя которых мне приходится ковылять по разным учреждениям. За эти годы я научился открывать костылем двери лучше, чем другие открывают рукой. Но о своей жизни инвалида я расскажу в другой раз.
Все же не хочу я умереть в кровати.
Я хочу участвовать в тех боях, которые, без сомнения, еще предстоят нам, пока красное знамя не расцветет победою над всем миром. Пехотинцем я не смогу быть, верхом ездить тоже не смогу. Конечно, для войны мало одной руки, но глотка у меня все еще звонкая. Эта глотка еще пригодится!
Замечательное наше время, мой друг! Я сижу в стороне, но часто, глядя, как растут стены новых домов и фабрик, чувствую — кровь у меня радостно закипает в жилах, так же как в годы войны. Знал бы ты, как мне хочется дожить до социализма!
Возможно, что именно поэтому я начал бояться смерти.
Как коротка, слишком коротка была до сих пор человеческая жизнь! С криком приходил человек в этот мир, чтобы уже с молоком матери всосать болезни и смерть. Одни умирали с голоду, другие от беспутства, и в конце концов все так или иначе страдали от неорганизованной, несправедливой жизни. При социализме человек будет жить долго, счастливо, и, когда наконец его сердце устанет от долгих, мудрых и светлых лет, он расстанется с жизнью с таким же удовлетворением, с каким мы в годы войны, поев досыта, отодвигали в сторону пустые котелки.
При мысли обо всем этом мне всегда становится тепло и хорошо.
Эх, Янис Гайгал, не зря ты воевал! А твоя звонкая глотка еще пригодится!
1
Кусты у реки, как обычно, росли сочные и густые. Только в одном месте кустарник прерывался, земля была там черная, обгорелая от костров на подсеке.
Подсека была уже частично выкорчевана. Целмс, устало пошатываясь, шел за плугом, который тащил тощий, задумчивый гнедой. Лемех часто зацеплялся за корни. Тогда человек и лошадь дружно рвались вперед, а корни стонали и ломались.
Ноги приятно вязли в мягкой, прохладной, вскопанной плугом земле.
Целмс иногда останавливался, обводил взором широкую поляну, сердце радостно замирало в груди: своя земля!.. И снова плуг со стоном врезался в землю. Треща разрывались корни.
Месяца три тому назад Целмс приехал в чужие края со своей женой. Корабль привез их сюда — двух мечтателей, которые принесли с собой веру обездоленного батрака в лучшее, светлое будущее. Далеко теперь рощи, леса и поля Латвии... При помощи латыша Бемса Целмс без лишних хлопот получил на выплату эту подсеку на берегу реки. На взятые с собой деньги купил необходимый хозяйственный инвентарь, работал без устали — и вот многое уже сделано.
Кусты раздались. Показалась женщина. Остановилась на краю подсеки. Глаза ее, такие блестящие на бледном лице, казалось, ловили каждое движение высокого, худого человека за плугом. Лицо ее просветлело, мелкие, скорбные морщинки вокруг молодого рта исчезли в улыбке, такой же молодой и ясной, как ее глаза.
— Янис, Я-а-а-анис!
Сухой короткий кашель прервал ее возглас.
— Янис!
В лесу откликнулось эхо.
Целмс поднял голову.
— Ну, разве уже завтрак? Не рано ли, Анна?
— Рано? — засмеялась Анна, подходя. — Вот уже, наверное, полчаса тому назад я ходила перегонять корову* На часах было без пяти минут восемь.
Целмс завтракал, сидя на земле и прислонясь к плугу. В одной руке держал ломоть хлеба, в другой — кружку молока.
Анна, усевшись на траве, сияющими глазами смотрела, как он ел.
Гнедой, свесив голову, стоял задумчивый и равнодушный. Целмс взглянул на гнедого, и тень промелькнула по его лицу.
— Надо дать и гнедому!..
Лошадь взяла в рот кусок хлеба, подержала его в зубах и выпустила.
— Плохо, Анна. Гнедой недолго протянет.
— Нно, милый!.. Нно!
Плуг снова со стоном пошел вперед, и за ним черной змеей вились отваленные пласты дерна.
Худой и высокий, пошатываясь, шел Целмс за плугом. Иногда он задумчиво качал своей упрямой головой. Гнедой?.. Да, с гнедым плохо. А если он сдохнет? Как тогда построить дом? Будь бы денег побольше, все бы ничего. Но денег мало, с каждым днем их все меньше.
Мысли были так же навязчивы, как оводы, не дававшие покоя гнедому. Не хотелось думать, но мысли мучили без конца.
Время от времени гнедой останавливался отдохнуть. Целмс не понукал его.
Целмс выпряг гнедого, пошел на край вырубки.
Там в густой кустарник уходила тропинка. Человек и лошадь вышли по тропинке на небольшую полянку, окруженную плетнем. Посреди нее стояло две землянки.
У «жилого дома», как Целмс и Анна величали одну из землянок, горел костер. Над костром висел котелок, у костра хлопотала Анна, закутавшаяся в шерстяной платок.
— Тебе опять холодно, Анна?.. Сегодня такая жара!
— Ничего, теперь мне снова хорошо.
Когда Целмс с нагретого солнцем воздуха вошел в землянку, его обдало запахом плесени.
В землянке была одна-единственная комната. Сквозь маленькое, узкое оконце пробивался тусклый свет. У одной стены стояли широкие деревянные нары с постелью, у другой — стол и скамья. Стены были покрыты плесенью, словно пестрыми обоями.
Целмс тяжело опустился на постель.
Подложив руки под голову, он лежал и смотрел на потолок. Перед мысленным взором его замелькали старые картины.
Вот большой Гауенский лес... Сердито чихая, врезается в деревья стальная пила, тащит за собою мальчика, ломает ему руки, спину... А вот имение, церковь, школа, Гауя... Родина! Целмс горько усмехнулся. Разве можно назвать родиной тот угол, с которым связано так много тяжелых воспоминаний, воспоминаний о рабском труде и безотрадной жизни? Родина! Словно чтобы заглушить горечь дум, вспомнился Целмсу старый дуб на берегу Гауи. На его ветвях в детские годы Целмс нередко качался на зависть хозяйским детям. Завидуйте, завидуйте смелому, веселому, вы, спесивые, заносчивые хозяйские дети, только что прогнавшие его со своих замечательных качелей! Завидуйте!
Вот другая картина. Он, Целмс, уже взрослый парень. Усадьба хозяина Залита. Цветущие вишни. Теплый вечер, мягкий, как птичий пух. В такой вечер он, Целмс, впервые поцеловал под цветущими вишнями Анну — тихую и трепетную.
...Вот они оба на лугу. Жара. Сладкий, дурманящий, как сама любовь, запах сена.
Осенью, только осенью свадьба! Разве батраку дано время любить?
«Америка»! Это слово, звучавшее таинственно и зовуще, бросил в сознание Целмса сам хозяин Залит. У него в Америке живет родственник Беме. Был совсем бедный человек, за пятнадцать лет жизни в Америке разбогател. Беме писал в письмах о чудесной, сказочной стране, где работа и предприимчивость творят чудеса. Каждое письмо Бемса соблазняло, звало. Земля? Земля там хорошая. Кредит на устройство на первые годы жизни обеспечен.
Тогда Целмс и Анна начали копить деньги. Копили пять лет. Ну, что же, если для начала придется залезть в долги, работать в поте лица?
Америка! Америка!
Такова ли эта страна чудес?