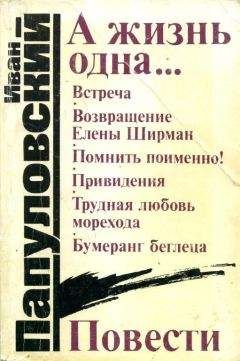В Ленинграде, в семье Алиты Михайловны, я вновь открыл для себя Елену Ширман. Я брал в руки вещи, письма, стихи, книги, принадлежавшие ей, с утра до позднего вечера слушал нескончаемые воспоминания Алиты Михайловны о разных периодах и эпизодах кипучей Лениной жизни.
— Неуемный характер у Лены был, — как бы заново оценивая деяния младшей сестры, говорила Алита Михайловна. — В юные годы в тракторной бригаде учетчицей работала — поражала всех своими выдумками и необычными поступками, в институте лучшие платья отдавала подругам, а сама довольствовалась тем, в чем была. И никогда ни на что не жаловалась. Зато не прощала подлости, шерстила зазнаек, особую нежность проявляла к детям… Кстати, я ведь помню про ту посылку, что Лена в Свердловск вам отправила — с жирами да витаминами. На почте из Москвы в то время продуктов не принимали, так она через Мишу Васильченко — ведь он служил в армии, ему было можно.
То, что я знал лично и помнил по письмам, обрастало теперь фактами и подробностями, которые с новой для меня стороны освещали силу и красоту духа Лены.
Разве можно, взъерошенной, мне истлеть,
Неуемное тело бревном уложить?
Если все мои двадцать корявых лет,
Как густые деревья, гудят — жить!
Жить! Изорваться ветрами в клочки,
Жаркими листьями наземь сыпаться,
Только бы чуять артерий толчки,
Гнуться от боли, от ярости дыбиться.
Елена Ширман. Из ранней поэмы «Невозможно»Бывший разведчик Иван Иванович Смирнов, однополчанин и друг Валерия Марчихина, проживающий сейчас в Калининской области, говорят, назвал подвигом то, что совершила перед смертью Лена Ширман. Бесспорно, это подвиг. Но убежден, что подвигом была и вся ее жизнь, только он не бросался в глаза оттого, что был естественным проявлением ее духа, ее существа.
…7 октября 1941 года Лена писала в Свердловск, где в то время училась юная поэтесса из «страны Юнонии» Таня Дудкина:
«…Расскажи людям о том, как героически сражались и умирали советские люди в смертельной схватке с чудовищем фашизма… Я буду умирать, если придется, с радостью, что мы все сражаемся за общее дело коммунизма»[1].
А через месяц она вспоминает об этом письме и осуждает себя:
«…Я тебе написала паническое письмо. Теперь я его очень стыжусь. Я еще не умерла и, наверное, не скоро умру. Город наш держится стойко!»
22 февраля 1942 года Лена писала:
«…Война суровая, война затяжная… Нужны выдержка, спокойствие, мужество. Умение переносить лишения, умение работать в любых условиях, при любом настроении…»
Что ж, Лена умела работать в любых условиях, при любом настроении. Писала ночами. Боевой листок «Прямой наводкой» с ее стихами, подписями под карикатурами с нетерпением ждали бойцы и офицеры частей и соединений, оборонявших Ростов-на-Дону.
Вскоре перешла на работу в газету.
В станице Буденновской она оказалась вместе со стариками-родителями, с товарищами по выездной редакции. Когда немцы ворвались в дом, в ее руках был легкий дорожный чемоданчик, набитый листками «Прямой наводкой».
Лена любила немецкую литературу, отлично знала немецкий язык и, как я уже говорил, переводила из Рильке, но сейчас на этом языке говорили ее враги, и она молчала. Молчала и в тот роковой момент, когда ее чемоданчик внезапно раскрылся и под ноги фашисту посыпались пахнущие свежей типографской краской листки с карикатурами на Гитлера и его свору…
«Редактор Е. Ширман» — это в конце каждого листка. Да еще маленькая книжица стихов «Бойцу Н-ской части», недавно вышедшая из печати. И этого вполне достаточно, чтобы немцы поняли, с кем имеют дело.
Ее допрашивал гестаповский офицер. Он бил Лену по лицу ее книжкой, на обложке которой был изображен красноармеец, и истошно орал:
— Зачем ты это писала? Зачем, а?!
Через переводчика Лена на сей раз ответила:
— А как же еще писать? Это моя работа, это моя профессия.
— Стихи бойцу Красной Армии — профессия?!
— Да.
Окно комнаты, в которой допрашивали Лену, выходило на двор. Полицаи слушали и поражались выдержке и стойкости нежной, красивой женщины.
Однажды во двор комендатуры въехала машина с закрытыми бортами. Узникам зачитали приказ о переводе на «сборный пункт», отобрали все вещи и приказали грузиться. Лена хотела спасти тоненькую тетрадочку со своими дневниковыми записями, которые вела почти до последнего дня, но гестаповец вырвал ее и отбросил в сторону, в пыль…
При погрузке отец Лены замешкался, и на него посыпались удары. Никто не имел права помочь обессилевшему товарищу, но Лена выскочила из строя и загородила отца. Немец с трудом оттащил ее, наградив бессчетным количеством ударов.
Лена нежно успокаивала родителей, просила их не показывать своей слабости врагам. Она громко сказала, чтобы слышали все обреченные:
— Нас везут не на сборный пункт, нас везут расстреливать. Не плачьте, умирать все равно придется, и надо умереть с достоинством, по-человечески.
Полицаю, вспрыгнувшему в машину, она стала смеяться в лицо:
— Расстреливать везешь? А стрелять-то учился? Смотри не промахнись!
Возле станицы Ремонтной, на территории кирпичного завода, было много ям и воронок от бомб. Привезенных на казнь брали с машины по одному, приказывали раздеваться и становиться на колени лицом к яме. Шофер машины из автомата в упор стрелял в затылок очередной жертвы, и человек падал на дно ямы…
Лена обняла родителей, прощаясь без слов и слез. Когда очередь дошла до отца, он громко сказал:
— Смотрите, как умирают честные люди!..
Выстрел тут же свалил его.
У матери струились по щекам слезы, когда Лена вышла к краю ямы, запрокинула голову к солнцу:
— Смотрите, какое небо, какое солнце! Все это останется после нас!
— На колени! Быстро! — последовала команда.
Но Лена не становилась на колени, она… улыбалась!
Тогда палач ударил автоматной очередью по ее ногам. Только потом в затылок.
Через двадцать с лишним лет нашелся тот последний Ленин дневничок, который перед казнью был брошен гестаповцем в пыль. Его подобрал один из невольных свидетелей и… хранил два десятилетия как укор своей совести и как память о необыкновенной женщине, поведение которой перевернуло ему всю душу. Я держал в руках, я читал этот потрясающий человеческий документ, каждое слово в котором обжигает, зовет на борьбу.
Будто из ее собственных уст слышу я дерзновенные слова:
Пусть будет не так, как будет!
Пусть будет, как я хочу!
Таллин, 1966—1976
Дежурный по учебной роте растолкал меня в третьем часу ночи:
— Крылаткин, к телефону!
Звонила мать:
— Николенька, приезжай к нам…
Я не узнал ее голоса — столько в нем было растерянности, но только она называла меня этим старомодно ласковым именем.
— Мама, что случилось? — И вдруг меня бросило в жар от собственной мысли. — Дед?
Она сглотнула слезы — я даже представил, как некрасиво сморщилось при этом ее бледное лицо.
— Да, Николенька, дед… Такси, наверное, уже на подходе, запиши номер…
Телефонная трубка стала вдруг тяжелой.
— Мама, повтори номер такси!..
На безлюдных улицах Москвы еще не погасли фонари, но небо светлело с каждой минутой. Фасады домов были украшены красными флагами, плакатами и транспарантами — наступало второе мая. Молчаливый шофер гнал «Волгу» по быстро высыхавшему после дождя асфальту. В этот год пришла ранняя весна. Задолго до первомайских праздников столбик термометра поднялся до плюс двадцати, в одну неделю из набухших почек развернулись нежно-глянцевые липкие листочки, и все зазеленело, преобразив бульвары и парки, улицы и площади столицы.
Пробуждение природы никак не вязалось с тем, что именно сейчас ушел из жизни мой дед — Николай Иванович Крылаткин, ветеран войны и труда.
Он скончался в своей кровати, никого не позвав на помощь, а может, и не успел позвать — так внезапно остановилось его сердце. «Инфаркт миокарда», — засвидетельствовали врачи реанимационной бригады, вызванной моим отцом, Иваном Николаевичем Крылаткиным.
Недомогание дед почувствовал накануне, когда вся наша большая семья, пройдя в первомайской демонстрации по Красной площади, собралась в Останкине, в квартире моих родителей, где после смерти бабушки Ани он жил с нами вот уже более десяти лет.
Вчера я обратил внимание, как тепло, с любовью посматривал он добрыми синими глазами на веселое рассаживание своего многочисленного потомства за длинным праздничным столом в нашем «синем зале». Привычные места занимали отец с матерью и я, получивший увольнение на двенадцать часов, дочери деда — то есть мои родные тети Майя и Раиса Николаевны, их мужья Вадим и Платон, а также их дочери-школьницы — аккуратно причесанные девочки с тугими косами.