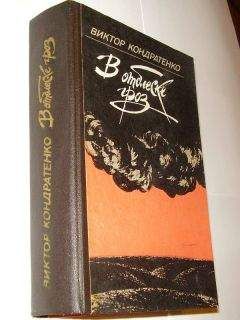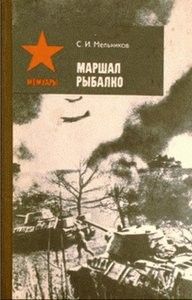В каморку заходит, запыхавшись, Аким Гончарук. Он быстро летел по лестнице, спешил заглянуть в подшивку «Красной звезды». С досадой осматривает полки — нужную увезли в редакционный поезд. На груди у Гончарука орден Красного Знамени. Награда немалая, и получил он ее за подвиг в бою на озере Хасан. В редакции ходит молва: Аким отличный пулеметчик, даже снайпер. Так ли это? Я не знаю. Но газетчик он настоящий и товарищ на редкость надежный, о таком человеке говорят: «С ним я пошел бы в разведку».
Оказывается, на секретарском столе у Крикуна Аким видел важные материалы. На первой полосе пойдут Указы Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации, о введении военного положения в ряде местностей страны. Гончарук коротко пересказывает содержание приказа командующего Юго-Западным фронтом. Герой Советского Союза генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос обратился к войскам с призывом разгромить зарвавшегося врага. Аким слышал: звонили из РАТАУ — поступила первая сводка Главного Командования Красной Армии.
— Сколько нового, ошеломляющего... — роняет Борис Палийчук.
Дверь, чуть не слетев с петель, распахивается настежь.
— Приготовиться! Всем приготовиться! Скоро выезжаем на фронт. — Крикун возбужден и, даже не замечая, больно тычет мне в грудь толстым секретарским карандашом. — Поедете со мной в «эмке»...
— Когда?
— Час еще точно не установлен... Ждите сигнала.
Я остаюсь в комнатушке один. У меня все приготовлено к походу. Долго не слышно никакого сигнала. А что, если в суматохе Урий Павлович забудет меня в этой каморке, словно старую подшивку? Эта мысль заставляет вскочить с дивана. Приподнимаю плотную штору. Во дворе все машины выстроены в ряд, боковые дверцы закрыты, в кабинах не видно водителей. Пожалуй, Крикун перестарался, рано забил тревогу. Томительно тянется время. Раскрываю на диване подшивку, которая так славно служила мне вместо подушки. Всматриваюсь в газетную страницу. Что это? В лучах слово «Красная». Под ним крупно набрано «Армия». Над чуть растянутой вогнутой буквой «м» — пятиконечная звезда. Это же комплект «Красной Армии» времен гражданской войны! Пожелтевшие страницы гремят орудийными залпами. «Красный фронт», «Оперативные радиосводки», «Борьба с Петлюрой», «В стане Врангеля».
С интересом перелистываю страницы. Газетная бумага сменяется грубой оберточной. На Правобережной Украине на красные войска наседают банды петлюровцев и гетманских сечевиков... И вот уже газета печатается на толстой синей бумаге — я видел такую в харьковских бакалейных магазинах, в нее заворачивали сахарные головы. На юге развивает наступление белый генерал Деникин. Он подходит к Киеву, и накануне сдачи города редакция переезжает в Новозыбков. Не хватает наборщиков, на исходе «сахарная» бумага. В глаза бросаются строчки: «Вот-вот на радость буржуям умрет красный трубач. Но боевой сигнальщик живет. На помощь приходит начдив Николай Щорс. Он приказывает оборудовать для газеты специальный поезд, чтобы с колес печатное слово шло прямо в полки».
А за окном — гул моторов. Неужели сигнал к отъезду? Приподнимаю шторку. Водители опробуют моторы и, убедившись в их исправности, покидая кабины, хлопают дверцами. Ложная тревога. Прислушиваюсь. Где-то за стеной приглушенно звенит гитара и тихо-тихо поет Поляков: «В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть».
Какой хороший голос у этого казачины... Принимаюсь опять перелистывать газетные страницы. В жаркий августовский день у села Белошины, под Коростенем, на руках у Ивана Дубового умирает легендарный комдив. «Щорс вскинул бинокль, пытаясь обнаружить позицию петлюровского пулеметчика. Бинокль выпал из рук Щорса, и голова его поникла. Николай Щорс прожил ещё пятнадцать минут и, не приходя в сознание, умер».
С тяжелым чувством переворачиваю страницу. Вот уникальный снимок — три красноармейца с гранатами в руках стоят на броне захваченного ими белогвардейского танка. На борту бронированной громадины выведено белой краской: «За Русь Святую!» И лаконичная текстовка: «Захвачен и послан в качестве трофейного подарка в Москву В. И. Ленину».
Стараюсь рассмотреть лица красноармейцев. На давнем снимке трудно узнать, молодые они или старые, эти сильные духом люди. У одного фуражка без козырька и обмотки размотались. Вороты гимнастерок распахнуты — жарко.
Листаю дальше: командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе говорит жителю Строгановки Ивану Ивановичу Оленчуку: «Смотрите же, дорогой. Проводите войска. Я надеюсь на вас». Старый соляр Оленчук ночью через Гнилое море — Сиваш — ведет головной отряд 15-й дивизии. Ветер меняет направление, с востока наплывает туман, в Сиваш катятся волны Азовского моря. Оленчук чутьем угадывает брод...
Последняя газета — 17 ноября 1920 года. На первой странице броская шапка: «Полный разгром Врангеля!»
Нет, это еще не последняя. Кто-то аккуратно приклеил к толстому картону карманчик и вложил туда юбилейную. Она вышла через десять лет после победы над черным бароном. Интересно! Первыми редакторами «Красной Армии» были профессиональные революционеры, члены партии с 1899 года. Кончилась гражданская война — и они полномочные послы в Италии, в Норвегии и Швеции. А какие находчивые корреспонденты! Интервью с Фрунзе, беседы с Горьким, Барбюсом, Кашеном. И как все живо, увлекательно написано. Обидно, что подшивка попалась мне на глаза так поздно. Как мало я знал о своей родной газете.
— Выходи строиться! — по всем этажам и лестничным клеткам — снизу и сверху звучит команда.
Кладу на полку подшивку. «Да, были газетные асы! У них можно поучиться чувству долга, оперативности и умению выполнять самые трудные задания». Беру сумку с гранатами, наган. «Я не первый воин, не последний...» И, повторяя про себя блоковскую строчку, спускаюсь по лестнице.
Двор гудит голосами и моторами. Полковой комиссар Иван Иванович Мышанский, отдав последнее приказание водителям, садится в головную машину.
— Поехали! — звучит его зычный голос, и редакционная колонна трогается.
Ночь теплая. От яркой луны — воздух лимонный. Белеют стены. Над верхушками тополей шеломом былинного богатыря поблескивает золотой купол звонницы. За рулем Хозе похож на проворного ястребка. Хотя июньская ночь светла, но езда в колонне без фар, с неожиданными остановками, требует осторожности. Хозе внимателен и молчалив. Крикун нервничает. Он долго, не закуривая папиросу, как дятел, постукивает мундштуком по крышке серебряного портсигара. Тук-тук... Тук-тук... Промелькнула исклеванная гайдамацкими пулями знаменитая стена «Арсенала». На Крещатике дом с белыми колоннами и широким балконом напоминает мне о литературном вечере. Совсем недавно в переполненном зале городского Совета звучали стихи и сиял электрический свет, а сейчас он тих и темен. Грустно. Все хорошее в прошлом. На бульваре Шевченко Хозе проронил:
— Легли на курс.
Крикун наконец закурил. Он съежился и зарылся в шинель.
Затемненный город кажется незнакомым и совсем необычным. Лунный бульвар, лунные улицы и... только патрули да разъезды конной милиции..
На рассвете по гранитным глыбам, разбросанным вдоль дороги, узнаю Коростышев. Басит под колесами мост. Внизу вьется Тетерев. Его берега скалисты и круты.
— Что там такое? Вы ничего не слышите? — спросонья спрашивает Крикун.
— Воздушная тревога, — невозмутимо отвечает Хозе.
Где-то возникла пробка, и наша редакционная колонна останавливается. Машины усиленно сигналят.
— В укрытие! — кричит Урий Павлович, сбрасывая шинель.
Мы выскакиваем из «эмки». Слишком поздно искать убежище. С моста в Тетерев не прыгнешь: высота солидная — дух захватывает. А в небе свистит немецкий самолет. Ои скользит над шоссе, идет прямо на мост. Все ближе, ближе — длинная, тощая, пепельно-желтая змея. Жалом кажется красный кок винта. «Мессершмитт»! Идет на бреющем. Вот он чуть вздрогнул. Сейчас полоснет пулеметной очередью.
Я чувствую противную сухость во рту, жар печет губы. А «мессер», посвистывая, проносится над мостом и, не открывая огня, уходит.
— Ах ты, проклятый свистун. Как напугал... Так незаметно, по-воровски подкрался. — Урий Павлович поправляет съехавшую на затылок фуражку. В машине он удивляется: — Собственно говоря, почему он не стрелял?
— Это не охотник, а разведчик. В глубоком тылу он не обстреливает, больше высматривает.
— Пожалуй, вы правы, — соглашается со мной Крикун и снова зарывается в шинель.
На горизонте Житомир. Вблизи шоссе на топком лугу свежие бомбовые воронки. Они настораживают. Круглые, черные ямы с болотной водой напоминают котлы, в которых застыла смола.
На станции — скопление составов, и там, без устали посвистывая, пыхтят маневровые паровозы. Улицы, в большинстве застроенные одноэтажными домами, только начали оживать. На траве, на кустах и на клумбах — плотная серая пыль. Мостовая в темных масляных пятнах — прошли танковые колонны и оставили свой след.