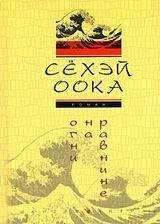Чтобы никто не поймал меня врасплох, я обустроил себе в лесу тайное убежище, штаб-квартиру, и днем обозревал оттуда свои временные владения.
Мой покой нарушали только американские самолеты. Иногда они в боевом порядке пролетали над плантацией, и воздух дрожал от гула двигателей. Но чаще в небе мелькал аэроплан.
Однажды утром самолет с пронзительным скрежетом буквально прополз брюхом по верхушкам моих деревьев. Все происходило у меня на глазах, я даже умудрился разглядеть летчика в кабине. У него на шее болтался красный шарф.
Самолет медленно скользил мимо меня, пилот сидел, словно истукан, без движения, и глядел в одну точку. Глубоко внутри меня что-то дрогнуло, неожиданно я испытал прилив симпатии к этому американскому летчику. Человек! Я так давно не видел людей! Да, это был враг, живое воплощение угрозы и опасности. Но здесь, в моем обретенном раю, сама мысль о врагах казалась абсурдной.
Порой орудийная стрельба усиливалась, земля сотрясалась от взрывов, иногда в шуме и грохоте я улавливал гул моторов. Однако, судя по всему, гудели не самолеты, а скорее моторные лодки. Это заставило меня задуматься. Возможно, морской берег совсем рядом?…
Я попытался определить свое местонахождение. После того как американцы разбомбили госпиталь, я бесцельно блуждал по долинам и прошел примерно тринадцать километров. Стало быть, я удалился на двадцать километров от места базирования нашего взвода. Ориентируясь по солнцу, я все это время двигался на север. Поскольку наш лагерь располагался в сорока километрах к югу от базы Ормок, то я, вероятно, находился где-то посередине между этими двумя пунктами.
Полярная звезда подсказала мне, что хижина моя выходит на северо-восток, а противоположный косогор смотрит на юго-запад, то есть в сторону моря.
От праздной и сытой жизни я настолько обленился, что так ни разу и не сподобился залезть на соседний холм и изучить окрестности. Но тут меня охватило жгучее нетерпение. Стремясь наверстать упущенное, я со всех ног бросился бежать мимо своих «картофельных деревьев» по скользким, обляпанным грязью бревнам, которые своеобразным настилом накрывали впадину. Я вскарабкался вверх по соседнему склону и затрепетал, почувствовав на щеке нежный поцелуй морского бриза. Через мгновение передо мной открылось море.
Лесная полоса, наползавшая из глубин острова, обрывалась у подножия холмов, дальше расстилалась долина, ее по диагонали перечеркивал серебристый ручей, исчезавший затем в другой, прибрежной, густой чаще. А за деревьями в подкове мысов блестел залив. Оттуда доносился шум мотора, но лодок я не заметил. «Тра-та-та-та!» – стучал двигатель, и звуки, отраженные водой и утесами, катились по равнине и холмам.
Я никогда прежде здесь не был. Без сомнения, наши части высадились севернее этих мест. Стена леса скрывала от меня берег, и я не знал, живут ли там люди. Во всяком случае, домов я так и не увидел, и это вселило в меня спокойствие.
Еще раз осмотрев окрестности, я отправился обратно к своей хижине. Я шел и силился понять, что это так странно блестело в небе над зеленым кружевом древесных крон.
С тех пор я ежедневно совершал прогулку по котловине и вверх по косогору, усаживался на траву и без устали разглядывал малахитовую зыбь.
Море Висаян, тихое, спокойное, ярко блестело в кольце многочисленных островов. Вечером в сумеречной дали я угадывал контуры горной цепи острова Себу. Когда-то там стояла моя часть.
Я неподвижно сидел на траве и всматривался в даль. Морская зыбь постепенно темнела. Очертания Себу таяли в тумане. Я медленно поднимался на ноги и покорно плелся к себе в хижину.
Утром волны рисовали полосатые узоры на темно-синем шелке вод.
А я почему-то должен был жить вдали от моря, в жалкой лачуге на холме и мириться с этим…
Странный объект, блестевший над лесом у берега, особенно четко вырисовывался на фоне вечернего неба, когда лучи предзакатного солнца золотили его контуры. Формой и цветом он напоминал сухую корявую ветку. Однако в этой «ветке» отсутствовала какая-то природная естественность, которая позволила бы мне идентифицировать ее как часть дерева.
Однажды днем я специально перебрался метров на пятьдесят в сторону от своего наблюдательного пункта, чтобы увидеть загадочный объект в новом ракурсе. И, напрягая зрение, сумел разглядеть вертикальную планку, перекладину… Внезапно меня осенило. В небе сверкал крест!
Я содрогнулся. Долгое одиночество негативно отразилось на моей психике: все новое, непривычное выбивало меня из колеи, вселяло страх. Воссиявший символ христианской веры вверг меня в шоковое состояние.
Крест, по всей видимости, венчал церковь. Обычно храм является самым высоким зданием в любой филиппинской деревне. Вывод напрашивался сам собой: по ту сторону леса находился поселок. Вокруг церкви лепились домишки и лачуги, и в них жили люди…
Американские корабли не стояли на рейде в заливе, значит, в поселке обитали только местные жители, филиппинцы. Однако, какими бы набожными и благочестивыми ни оказались эти люди, мне от них нечего было ожидать, кроме злобной, яростной враждебности. Я же не питал к ним ненависти. Но ни на секунду не забывал и о том, что наши страны находятся в состоянии войны. Мы были врагами и не могли испытывать друг к другу нормальные человеческие чувства, в том числе и те, которые символизировал крест, сиявший в небе.
Этот крест объединял моих недругов, для меня же он являлся символом опасности, а не любви.
Я не мог отвести глаз от лучезарного креста. Над ним медленно пролетел самолет. Солнце уже клонилось к западу, его лучи, точно золотые стрелы, пронизывали сизую дымку, затянувшую горизонт. Я покинул свой наблюдательный пункт и ночь провел без сна, размышляя о кресте.
В последнее время я пребывал в странном состоянии: испытывал физическое пресыщение и психическую опустошенность. Я почти круглосуточно что-нибудь жевал, стремясь оттянуть неминуемый конец. И вдруг душа моя замерла в восторге перед могущественным символом человечности…
Когда я был еще ребенком, Японию охватил интерес к христианству, кресты появились на всей территории страны, даже в глухих деревушках. Я заинтересовался этой западной религией сначала из любопытства, потом был очарован красотой и романтикой вероучения, символом которого является крест. Но позже, получив классическое образование, ознакомившись с принципами агностицизма, я, как мне казалось, сумел избавиться от детских заблуждений. И тогда я создал свое учение, догмы которого, с одной стороны, соответствовали социальным и культурным традициям, а с другой, восходили к некоему персональному гедонизму. Естественно, моя философия была далеко не идеальной, я вполне осознавал это, но в повседневной жизни она мне отлично служила. Теперь же, очутившись в одиночестве и пустоте, на пороге смерти, я почувствовал, что стройная система рушится. И мое восторженное восприятие креста как религиозного символа ясно свидетельствовало об этом.
Я задумался: являлись ли мои детские представления чистой иллюзией? Я пытался проанализировать свое отношение к иррациональной вере в существование Бога. Без сомнения, мое невежество, отсутствие знаний и опыта тормозили процесс личностной эволюции. Но был еще один важный момент, определивший мое развитие. В юности я жаждал найти Силу, познать трансцендентальное Нечто из-за пробудившегося во мне всепоглощающего зова плоти. Я чувствовал, что сексуальная одержимость есть зло, грех, и обуздать ее можно лишь с помощью внешней силы.
«Любовь – это соучастие в сладострастии». Умом я мог не принимать данную установку поэта, но хорошо помнил чувственную дрожь, чуть ли не священный трепет, который вызывали во мне эти слова. Я ощущал, что плотская любовь дурна именно своей похотливой сладостью. Позже я, конечно, отказался от всех этих бредовых идей и в дальнейшем не испытывал никаких комплексов по поводу своей сексуальной распущенности. А теперь, спустя столько лет, во мне вновь заговорило сомнение. Затем возникло желание все как следует обдумать, взвесить и сделать соответствующие выводы. Если в моих юношеских представлениях о греховности физической любви содержалась хотя бы толика истины, тогда вся моя жизнь с вечным поиском наслаждений, с набором умозрительных построений и рационалистических концепций была сплетением ошибок и аберраций. Где же скрывается истина? В моих юношеских колебаниях, поисках, приступах растерянности и беспокойства или же в моих более поздних установках, в увлечении гедонизмом, ставшим основополагающим принципом моего бытия? Истина могла быть где угодно, только не между этими двумя полюсами мировоззрения. Я лежал, уставившись в потолок хижины, и думал. И никак не мог прийти ни к какому заключению. Мысленно я перенесся в дни юности. Мое существование тогда было проникнуто спокойствием и умиротворением. Я верил в христианского Бога, читал Библию, вдумывался в Его послания человечеству, пел псалмы… и предавался плотским утехам с девушками – без горения, без желания…