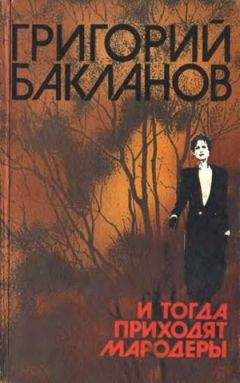— Ну и что такого? Подумаешь, слово какое-то не так.
— Ах, какая прелесть! Да тут целые россыпи на каждом шагу. «Церковь не составляло труда найти из-за находившегося под ней кладбища…»
— Она шесть лет жила за границей.
— Да хоть сто лет. Она родного своего языка не знает. Нет, тут просто шедевры: «Из окон высовывались бюсты мирных жителей…» Бюсты мирных жителей!
— Прикрепят молодого мальчика, окончившего… Будут редактировать…
— Кто она такая, чтоб на нее негры работали? Почему тебя вечно тянет в грязь? А та, которая действительно заслуживает, которая во сто крат чище…
— Кто это чище и лучше?
Стыдно вспоминать, что в момент ссоры говорят друг другу интеллигентные люди, стыдно все это. На другой день я чувствую себя виноватым, поскольку кричал и был раздражен, и уступаю вдвойне.
Перед отпуском столько наваливается всяческих дел! Все, что было отложено раньше, забы-то, хотелось забыть, что нужно тебе, нужно кому-то, все это обрушивается в самый последний момент. Поощряемый звонками из издательства, ласковыми уговорами, я написал-таки наукооб-разное предисловие к этому роману, в душе презирая себя, отдал его на машинку буквально за полтора часа до отьезда. С машинки мадам заберет сама, вычитает сама, хватке ее можно позави-довать.
Только в вагоне, когда разместили чемоданы, сели и поезд тронулся, я вспомнил со стыдом, что так больше и не съездил к брату. Хотел, собирался и не успел.
А нужно для счастья, в сущности, немного: покой, мир и лад в душе.
Однажды мы с Кирой поднялись высоко в горы, здесь уже чувствовался холод лицом, где-то поблизости лежал снег, и я увидел на тропе, на примятом лишайнике свежий олений помет, пар подымался от него. Глубоко внизу металлически блестело море, волны на нем казались неподвиж-ной зыбью, и в разных местах, как щепки, — пароходики, за каждым белый след. Мне захотелось сказать Кире: «Смотри! Ведь это — счастье, которое не повторится. Эти древние осыпающиеся горы, этот холод, когда внизу жарко, этот свежеоброненный олений помет, еще теплый, это море внизу…» И я уже готов был сказать, но увидел ее лицо. Нет, не думой высокой, а житейской заботой был наморщен ее лоб. Те самые соображения, от которых мы уехали и которые, как болезнь, привезли в самих себе, не давали ей сейчас ни видеть ничего вокруг, ни ощущать. Она почувствовала что-то, сказала мне, вздохнув:
— Тебе полезны такие восхождения, тебе надо сбросить лишний вес.
Если бы люди так заботились о душе, как они стали заботиться о крепости и здоровье тела. И вот что замечательно: чем бесцельней жизнь, тем драгоценней; смыслом жизни становится трястись над ней.
Мы как-то отдыхали с Кирой на Кавказе. Для меня, жителя средней полосы, Кавказ слишком ярок, краски и зелень здесь жирны, а когда я вижу растущие на улице пальмы, я должен сказать себе, что они здесь действительно растут, а не выставлены из ресторана. В Крыму свет несколько серей, акварельней, но тем и ближе.
Так вот в том санатории все рвались принимать нарзанные ванны, это было какое-то палом-ничество. Кира говорила мне: «Как можно не воспользоваться нарзанные ванны!» Спасло меня чужое несчастье: сосед по этажу так переувлекся, что заканчивал отпуск в предынфарктном состоянии.
Здесь, к счастью, нет нарзанных ванн, но мы ежедневно совершаем восхождения. В принци-пе, я люблю ходить по горам, но когда это делается с единственной целью — сбросить лишний вес, и при этом надо дышать по соответствующей методике, ну, это уж извините меня.
Я не считаю, как теперь стало модно писать и говорить повсюду, что в природе все устроено на редкость разумно и прекрасно, а человек только и делает, что разрушает эту гармонию, эту единую цепь, все звенья которой… и так далее. Все дело в точке отсчета, с какой стороны взглянуть. В конце мелового, начале третичного периода вымерли динозавры, «сравнительно быстро», как об этом пишут в научных трудах. Сравнительно с чем? С нашим веком, который и ста лет не длится? А эти ящеры жили на земле сто двадцать миллионов лет, и точно так же или почти так же Земля наша раз в сутки оборачивалась вокруг своей оси, раз в год — вокруг Солнца. Вся история рода человеческого — да что история, все «до» и «пред», все его возникновение от неизвестного нуля до наших дней, — все это миг по сравнению с одним только их вымиранием. Для нас день нашей жизни кажется значительней и протяженней целой мезозойской эры или вот этого мелькнувшего «в конце мелового, начале третичного». И вот вымерли. Столько прожив, столько миллионов лет будучи совершенными, вымерли целиком. Разумно? Не знаю. Если бы их спросить и они могли бы ответить, вряд ли бы они сказали, что эта величайшая из катастроф разумна. А мы, не знающие даже приблизительно, что их постигло, поражаемся, как все совершен-но в природе, какая это единая, неразрывная цепь…
И что разумного, если когда-либо взорвется, обратится в космическую пыль и газ наша планета? Разумно с точки зрения обновления Вселенной, Космоса, чего-то еще более огромного, для чего не найдено пока ни слов, ни определений? Так эти категории за пределами нашего разума, для меня все это не интересно, не разумно и не должно быть, как, с точки зрения ящеров, не должно было случиться их вымирания, и тут мы не умней их.
Из всего алфавита мироздания нам приоткрылся пока лишь первый знак, первая его буква, и мне смешны эти нынешние восторги по поводу совершенства всего сущего, мне жаль людей, жаль человечество, которое столько прекрасного совершило и еще больше способно совершить в этой адской круговерти, где теряет смысл даже самый главный вопрос: «Зачем?» Но свою единствен-ную, крошечную, на такое краткое время дарованную нам жизнь мы действительно портим как умеем.
Началось с того, что мне было отказано в путевке в тот санаторий, куда мы нацелились. Я все это предвидел заранее, знал, но Кире хотелось именно туда, чтобы непременно провести отпуск среди людей того круга, а мне надоели попреки, что я ничего не умею, ни на что не способен, и я начал суетиться.
Кажется, Свифт сказал, что если части человечества привесить хвосты, так те, кому хвостов не досталось, почувствуют себя обделенными и несчастными. Вот и нам с женой потребовался хвост. Нам вдруг показалось оскорбительно ехать в тот самый санаторий, куда мы столько лет ездим, а в свое время добивались возможности попасть. И горы те же, и море то же, но вот понадобилось туда, где на тебя будут смотреть как на втершегося в их среду. Ну, были бы мы известные артисты или шахматисты — им везде рады, каждому интересно пройтись рядом, в отсвете славы, чтобы все видели. Я попытался объяснить, но Кира за всеми объяснениями видела лишь мою трусость и неумение добиваться, поставить себя должным образом, хотя такой-то и такой-то смогли поставить себя и ездят с женами.
Были наготовлены соответствующие туалеты, все складывалось хорошо, нам было обещано, а в последний момент отказали. Тут уже и я почувствовал себя ущемленным, наговорил резкостей, испортил отношения с теми людьми, с кем ни при каких обстоятельствах портить отношения не следует. Когда в конце концов нам пришлось поехать в прежний санаторий, все показалось нам здесь плохо, бедно, и запах здешней еды напоминал запах столовой.
А ведь двенадцать лет назад, в первый наш приезд, нам все так нравилось здесь, все волнова-ло. И постоянное ощущение моря, как стены за спиной, и вид моря с террасы между кипарисами, и ветер, вздувающий белые скатерти на столах. Мы не уставали по четыре раза в день желать прият-ного аппетита соседям по столу и столько же раз говорить спасибо, вставая из-за стола.
Нашими соседями были супруги теперешнего нашего возраста, которые тогда казались нам пожилыми. Соседство с нами явно оскорбляло их, мы это почувствовали сразу, особенно Кира. Утром, когда на закуску давали к завтраку ветчину, старушка в голубых бусах на дряблой, как у ящерицы, шее требовала подать глубокую тарелку кипяченой воды — «Она точно кипяченая?» и обязательно вымачивала в ней ветчину мужа и свою, поворачивая вилкой и так и эдак. В дверях раздаточной собирались официантки смотреть эту утреннюю процедуру. «Что она ее купает?» — говорила наша официантка Маша.
Вот точно такие надутые сидим теперь мы и портим настроение себе и всем вокруг. Еще только войдя в столовую, Кира говорит громко:
— Сегодня у них все пригорело, я слышу запах, я чувствую это.
Она брезгливо протирает бумажной салфеткой ножи и вилки, и Маше по два раза приходит-ся менять мне второе.
— Милочка, ему это жирно. Найдите что-нибудь попостней, вон я вижу у других.
Мне стыдно, но я молчу.
А Маша погрузнела за эти годы. Она уже бабушка, но все еще Маша, как в этом старом анекдоте: «Моя бабушка на телефонной станции девушкой работает».
— Что же ваши-то молодые не подарят вам внука или внучку?