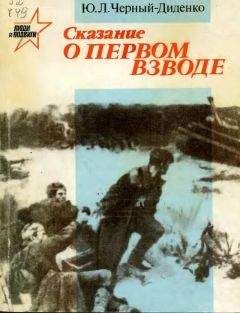Позади Зимина и Болтушкина валко и молча мерили неширокую тропу Чертенков и Вернигора. Для Чертенкова, впервые попавшего на передний край, все было здесь новым, незнакомым: и бережно прикрытый маскировочной сеткой штабель снарядных ящиков, приткнутый у пригорка; и словно завязшие в земле в своих укрытиях автомашины; и провода, множество проводов, подвешенных то прямо на ветках деревьев, то на раскачиваемых ветром легких шестах. И Чертенков осматривался вокруг не столько настороженным, сколько любопытствующим взглядом, тем взглядом, который еще не может отличить, насколько страшна для проходившего по этой тропинке была мина, чей свежий когтистый след виднелся чуть поодаль; насколько опасен был переход через этот увал, дорога по которому в ясную погоду просматривалась и простреливалась пулеметами фашистов.
— Откуда сам, браток? — скосив на Чертенкова глаза, поинтересовался Вернигора.
— Из Улан-Удэ! — охотно откликнулся Чертенков.
— Откуда-откуда? — подивился незнакомому для него названию города Вернигора.
— Из Улан-Удэ… Это за Алтаем, товарищ сержант!
— Улан-Удэ! Ишь ты! — повторил Вернигора и бесхитростно, словно размышляя сам с собой, расписался в том, что отнюдь не всегда у него были пятерки по географии. — Ну подумайте, и такой город, оказывается, есть!
В недавнее мирное время Вернигора не раз мысленно сетовал, что так неладно получилось у него с учебой. Успел закончить всего шесть классов. Надолго и тяжело заболел отец, и пришлось бросить школу, пойти работать в колхоз учетчиком. А позже только собрался ехать на курсы механизаторов, так призвали в армию. Три года, проведенные в ней до войны, и стали первой, по-настоящему серьезной школой. А еще большей житейской школой явилась армия в войну. Из тысяч прошедших перед ним людей, из тысяч знакомств в запасных полках, в госпиталях и комендатурах, в обогревательных и питательных пунктах и, наконец, в окопах вставал тот одушевленный живой облик Родины, который не разглядеть с одной только школьной парты. В огне боев была его Украина, а из глубины страны шли и шли на фронт новые полки, маршевые роты и батальоны — волжане и тамбовцы, уральские и тульские люди, москвичи и казанцы, поморы и сибиряки, казахи и пензенцы, шли с Лены и Енисея, шли с берегов Байкала и Тихого океана… А вот еще и новое — Улан-Удэ!..
— Что за люди там у вас? — спросил Вернигора, присматриваясь к скуластому, словно литому лицу Чертенкова, к чуть раскосым быстрым глазам, над которыми бугрились тяжелые веки.
Чертенкова не обидело это изумление, настолько простодушным оно было.
— Бурят-монголы… Скот разводим, лес валим, зверя бьем, паровозы строим, золото добываем, — усмехнулся и залпом выпалил Чертенков.
— Ты смотри! — восхитился Вернигора. — Главное ж гарно, що зверя бьете. Для цього ты сюда, браток, и послан!
Пригибаясь, бойцы миновали ходы сообщения и соскочили в окоп.
И еще в этот день была одна встреча. Но о ней в первом взводе не знали.
Когда взвод возвращался с реки, Грудинин и Торопов шли в конце колонны, замыкали строй. Иной раз трудно и объяснить, что толкает двух порой совершенно разных людей к дружбе. Что могло понравиться Грудинину, чуть ли не по-девичьи застенчивому и скупому на слова и любящему оставаться наедине со своими мыслями, что ему могло понравиться в балагуре Торопове? И что могло понравиться Торопову в замкнутом Грудинине, с которым и шуткой переброситься неловко: вдруг да обидится?! А вот же сблизились за какой-нибудь час. Может быть, Грудинин и сам тяготился своей замкнутостью и не хватало ему рядом приятелей, которые бы беззаботней, повеселей глядели вокруг? Может быть, и Торопов понимал, что не одна «легкость на язык» красит человека. И вот уже называли они друг друга по именам, и уже знали, кто из них откуда и какой путь прошел после тех памятных дней, когда одного в Иваново, а другого в Рыбинске, в общежитии машиностроительного завода, позвали и круто повернули их судьбы повестки военкомата.
— Ты мне скажи, Вася, и долго ж нам тут придется загорать? Страсть такого не люблю. Не по мне это! — порывисто признавался Торопов, чуть опережая Грудинина на узкой, косо заскользившей по склону дорожке.
— Может, уже и недолго… Вас ведь, пополнения, только и дожидались.
— В разведчики просился, когда роту рассортировали, так не послали. У нас, говорят, и без тебя их полный комплект. А в разведке бы лучше было. А? Как ты считаешь?
— Ну это ты зря. Им тоже настоящего дела иной раз месяц приходится дожидаться.
Взвод спустился в балку и проходил по дороге, как бы зажатой близко подступившим лесом. В глубине его меж картинно-пышными узорчатыми елями курились голубоватые и сизые дымки. Порыв ветра донес оттуда сладковатый на морозном воздухе запах какого-то варева, стук швейной машинки. Там шла неторопливая, размеренная жизнь полковых тылов.
— Вася, а Вася, а где у вас санрота? — неожиданно, точно спохватившись, спросил Торопов.
Дивясь такому мгновенному переходу в мыслях Торопова — от лихой разведки к санроте, — Грудинин посмотрел на пышущее здоровьем лицо товарища:
— А тебе на что она?
Тот по-свойски — догадывайся, мол, сам, — лукаво подмигнул глазом, заговорщически толкнул локтем.
— У нас с маршем сестричка шла, всю дорогу с ней болтал. Теперь ее куда-то в санроту направили.
— Вот оно что! — деланно усмехнулся Грудинин.
— Хотелось не потерять след, свидеться. Очень уж хорошая дивчина. Между прочим, она, по-моему, землячка твоя, ивановская. Сама на фронт упросилась. Мать ее вначале отговаривала: разве на фабрике ты не нужна, куда, мол, ты, Валюша. Так нет, настояла на своем…
Под ноги Грудинина словно что-то упало. На секунду он остановился.
— Валюша?.. — проговорил оторопело, недоверчиво, будто сомневаясь, да в самом ли деле сейчас, здесь, рядом с ним прозвучало это имя.
— Валюша! — мечтательно повторил Торопов. — И ты скажи, Васька, крепкая какая! Мы по тридцать — тридцать пять километров в день делали, и она с нами как ни в чем не бывало. Только на привалах все шутя просила — еще бы минуточку, еще бы минуточку посидеть, а потом поднимется, разойдется — и словно самый заправский солдат. Никак не удавалось на ночевках в одну избу попасть, больно уж строг старшина насчет этого, да и она сама… Да постой, ты куда?
Но Василий кинул на приятеля какой-то странно текучий, отсутствующий взгляд, прибавил шагу, обогнал полвзвода и, поравнявшись с Вернигорой, обратился к нему, командиру своего отделения.
— Мне бы на полчаса отлучиться, в санчасть надо.
— Чого це тоби вздумалось? Ну иди, когда треба, — разрешил Вернигора, зная, что кто другой, а Грудинин никогда не попросит лишнего. И через секунду шинель Грудинина мелькнула и скрылась среди заснеженных елей.
Он вернулся в окопы не через полчаса, а уже перед сумерками. Вернигора собирался было его пожурить, но увидел, как в глазах Грудинина плескался какой-то лихорадочный огонь, и смягчился.
— Да ты что, и в самом деле прихворнул? Иди полежи. Сменить нужно будет, вызову.
И вот Грудинин лежит на устланных ветвями сосны нарах. В утлую скрипучую дверь тянет ветерок-сиверик. Холод ползет на нары и с земляного пола, на который сапогами нанесены плотно сбившиеся ошметки снега. Холодом веет от заиндевевших, покрытых изморозью бревен наката. Грудинину хочется половчее укрыться шинелью. Он то натягивает ее полы на голову, то подтыкает воротник шинели под спину, точно боится, чтобы вместе с теплом тела не улетучилось и другое, самое дорогое тепло — тепло от только что пережитой встречи. Он заново переживал ее, заново осмысливал всем сердцем…
А было так. Он подошел к землянкам, где размещалась санрота, и в волнении замедлил шаги.
— Мне бы тут одну землячку отыскать, — проговорил он, когда на его стук дверь блиндажа открыла женщина с погонами лейтенанта медицинской службы, в черных роговых очках.
— Землячку? Какую? — переспросила женщина низким строгим голосом.
— Из Иваново… Сказали, что здесь она.
— Из Иваново? Будто бы у нас такой нет.
— Она новенькая. Сегодня только что прибыла.
— Ах, Валя! Так она рядом, вон в том блиндаже.
Сюда Грудинин уже не стучал, а рывком распахнул дверь, шагнул и мгновенно вобрал ищущим взором всю землянку… и ее, сидевшую у единственного оконца… Крохотное, непротертое, оно — да оно ли! — казалось, сейчас залило солнечным светом все вокруг.
Валя растерянно качнулась, привстала, вновь села. А он, даже не посмотрев, есть ли кто еще в землянке, бросился к ней, молча целовал и целовал ее губы, глаза, щеки, обнимал ее плечи, сжимал ее маленькие горячие руки.
— И ничего не написала, злая, ни слова же! — наконец проговорил он, не выпуская из своего взора ее счастливый, увлажненный взор.