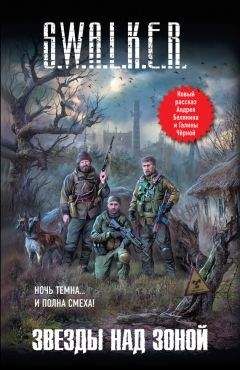Когда они двигались навстречу ракете, тени волочились позади, когда ракета повисала за спиной — тени стлались перед ними.
Каждая осветительная ракета была сообщницей, потому что помогала ориентироваться и делала их более дальнозоркими.
Но одновременно ракета являлась их предательницей: они сами становились видимыми для чужих глаз.
Плиты, которыми был вымощен тротуар, более гулко, чем асфальт, отзывались на шаги часовых. Но эти же плиты труднее принудить к тому, чтобы они оставались беззвучными, когда по ним шагаешь сам.
Наши батареи по-прежнему вели беспокоящий огонь, и на окраине городка время от времени рвались снаряды.
— Калибр сто двадцать два, фугасные, — определил Тимоша уверенно, и Пестряков кивнул в знак согласия.
Обстрел был разведчикам на руку, так как обезлюдил улицы, заставил немцев попрятаться. И опять-таки обстрел этот заставлял самих разведчиков остерегаться.
Тугоухий Пестряков, с опозданием заслышав снаряд, свистящим шепотом командовал: «Ложись, Тимошка!» Ведь никто от своего осколка не застрахован, и нечего играть со смертью в жмурки.
И еще множество условий и обстоятельств могло обернуться для двух ночных бродяг к их выгоде или к страшному урону.
Многое зависело от фронтового опыта этих людей, от их искусства разведчиков, многое зависело от того, сумеют ли они обратить эти условия и обстоятельства себе на пользу, лучше противника использовать обоюдоострое оружие.
Искусство разведчика начинается с драгоценного умения предвидеть и предугадать опасность. Ну а если умения нет — все остальное уже ни к чему, поскольку без этого умения не уцелеет ни один разведчик.
На протяжении ночи Пестряков не раз имел возможность убедиться в том, что Тимоша — разведчик стоящий, а товарищ — надежный. Примется Тимоша нести в подвале небывальщину — всякая вера к нему испарится. Отличится Тимоша, ну вот как тогда с четырьмя гранатами, — мнение о нем менялось к лучшему. Опять Пестряков какой-нибудь похвальбы наслушается, от которой уши вянут, так что даже слышимость ухудшается, — к своему старому выводу начинает тяготеть. Уже сколько раз за двое суток знакомства Пестряков вынужден был менять о Тимоше мнение!
Бахвал, да смелый, болтун, да дельный, простачок, да хитрый — вот ведь, оказывается, натура у него какая двусторонняя. Ну ловкач! Вокруг столба без поворотов пройдет.
— Откуда у тебя, Тимошка, такая сноровка образовалась? — полюбопытствовал Пестряков, лежа в канаве. — Где ты фронтовому уму-разуму научился?
— Самоучка, — Тимоша повернулся вправо: — Из меня разведчика по крошкам собирали…
Еще когда Тимофей Кныш служил шофером и доставлял снаряды с дивизионного обменного пункта на передовую, он однажды удивил комбата своей наблюдательностью.
Тимоша замаскировал в березнячке грузовик, поскольку фрицы просматривали дорогу на передовую и все равно приходилось ждать наступления темноты, а сам, любопытства ради, пополз в боевое охранение. Он обратил внимание на то, что на немецких позициях, в близком соседстве один от другого, подымаются два дымка. А Тимоша знал, что фрицы в ротах полевых кухонь не держат, не так, как мы, фрицы привозят к себе в роты готовый обед. Откуда же вдруг два дымка кухонных по соседству в одной лощине взялись? Значит, дело ясное — два батальона или, может быть, даже два полка локтями трутся.
Наши как раз к наступлению готовились. Ну вот и ударили по той лощине.
Догадка Тимоши подтвердилась: там у немцев как раз находился стык двух частей.
А в другой раз привез Тимоша снаряды на батарею, замаскировал машину в лесу, улегся под ней — никак не заснет. Аккурат на артиллерийскую дуэль подоспел! Мы к немецкой батарее пристреливаемся, а немцы нашу батарею нащупали. Прямо хоть меняй огневую позицию. А позиция такая удобная, на самой лесной опушке, и, главное, все рубежи пристреляны, ориентиры установлены. Было совершенно очевидно, что немецкие наблюдатели следят за своими разрывами и за нашими выстрелами. День был пасмурный, и отблески выстрелов им хорошо видать было, вот-вот начнут бить по огневой позиции.
Тут Тимоша, разозленный тем, что ему так и не удалось заснуть, взял две противотанковые гранаты, пополз на опушку леса, в котором стояла наша батарея. И вот когда немецкий снаряд был на излете — через секунду-другую он разорвется на огневой позиции батареи, — Тимоша швырнул гранату на поляну перед лесом.
Немецкие наблюдатели увидели черный куст разрыва и приняли его за свой снаряд. А что значит — виден разрыв? Значит, недолет, снаряды не достигают леса.
Немцы увеличили прицел.
Тимоша тем временем перебрался поближе к лесу и, когда над головой его угрожающе прошелестел очередной снаряд, снова метнул гранату. Немцы увидели разрыв, решили — снова недолет, и еще больше увеличили прицел. Теперь их снаряды летели через нашу батарею и разрывались далеко позади, кроша и калеча деревья в безлюдном лесу. Тот лес они рубили осколками несколько дней подряд — «вели заготовку дров на зиму».
Командир батареи был в восторге от уловки заезжего шофера. Он представил Тимошу к медали «За отвагу». С тех пор Тимоша был на батарее желанным гостем, так что частенько, выгрузив снаряды, уезжал оттуда навеселе.
Батарея охотно располагалась на опушках лесов, и артиллеристы во время дуэлей пользовались методом Тимоши, чтобы сбить с толку немецких наблюдателей.
Вскоре после того случая Тимошу перевели из шоферов в артиллерийскую разведку, оттуда — в разведку дивизии, ему присвоили звание младшего лейтенанта, наградили Красной Звездой.
Но затем он счел несправедливым, что его так долго не награждают новыми орденами, не повышают в звании, и вот тогда-то ему пришла шальная мысль отправлять в штаб захваченных «языков» поодиночке, чтобы генерал расщедрился.
14
Пестряков и Тимоша благополучно подобрались к площади и залегли в садике у какого-то дома с вычурным балконом и еще более вычурной мансардой.
На противоположной стороне площади, за киркой, разорвался снаряд, и слепящее пламя, как молнией, осветило паперть кирки, памятник кому-то, кто восседал на лошади с саблей в руке и в островерхой кайзеровской каске. А самое важное — пламя осветило зенитки с задранными в небо стволами.
— В скольких городах у фрицев побывал, — прошептал Тимоша в ухо Пестрякову, наблюдая сквозь железные прутья забора, — а штатского памятника не видел.
— Тут, в Пруссии, все — оккупанты со дня рождения. И с древних времен фашисты.
— А памятников у них богато. И в конном, и в пешем строю красуются. Даже больше, чем в Москве. Ты в Москве-то бывал?
— Не привелось, — вздохнул Пестряков. — А давно мечтал. Еще Настеньку примерялся на выставку свозить. И сам бы подивился. Как антоновка и бумажный ранет на одной яблоне растут-уживаются.
— Я Москву хорошо знаю, — соврал Тимоша. — Двадцать семь суток в московском госпитале прожил. Правда, в хромом виде. Ковылял в город по увольнительной. Нормально. Даже посещал зрелищные предприятия. В самом центре жил. На бульваре. Где Александр Сергеевич Пушкин стоит в плащ-палатке.
— А кто вместо тебя наблюдать будет? — добродушно проворчал Пестряков. — Тоже Пушкин? Лучше проследи, Тимошка, куда шестовка с проводом тянется.
Тимоша воспринял замечание как должное. Приглядевшись к Пестрякову, проверив его в деле, Тимоша разрешил тому делать замечания и не обижался больше по пустякам.
Может быть, впервые за всю войну он оказался локоть к локтю с таким бывалым солдатом, что поневоле признал его превосходство.
— Через площадь провод тянется, — высмотрел Тимоша.
— Не станет Гитлер, чесотка его возьми, тащить на шестах провод через площадь, — рассудил Пестряков. — Он бы его вкруговую пустил. И на столбы подвесил. А этот провод в кирку пущен.
— Ясно, не молебен заказывают по телефону! — хохотнул Тимоша. — Не исповедуются. Там, на верхотуре, молятся наблюдатели. Стереотруба у них заместо распятия. А расчетные таблицы для наводки — библия.
— Кажись, твоя правда, Тимошка.
Пестряков дал знак двигаться.
Они благополучно пересекли сад, где стволы были вымазаны известкой, вышли в какой-то тесный дворик. Посредине дворика находился старинный колодец с круглым навесом, похожим на беседку.
Не успели они отойти от этого колодца, как сзади на них набросилась собака. Глаза ее по-волчьи горели, она захлебывалась лаем, одновременно хриплым и визгливым. То не был заливистый, беззлобный лай собаки, которой прискучило молчать и которой представляется удобный повод поддержать репутацию сторожа. Этой овчарке не хватало лая, чтобы выразить всю свою злобу, рожденную голодным и страшным собачьим одиночеством, всеми тревогами, вызванными обстрелом и пожарами вокруг, всеми незнаемыми прежде запахами, всеми обидами, которые были нанесены за последнее время, начиная с той минуты, когда ее так бессердечно бросил здесь, во дворе, хозяин и забыл, что ее полагается кормить, поить, водить на прогулки в городской парк, где всегда можно встретить много знакомых и незнакомых сук… Уже много дней никто, даже гадкий соседский мальчишка, который имел скверную привычку дразнить через забор, не звал ее по имени — будто люди сговорились между собой забыть кличку, которую сами же придумали. Зачем же тогда хозяин учил ее ходить на задних лапах, носить в зубах палку, подавать то левую, то правую лапу? Она давным-давно не грызла костей, не лакомилась сахаром или искусственным медом…