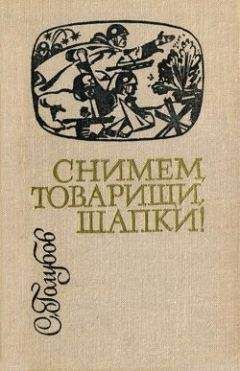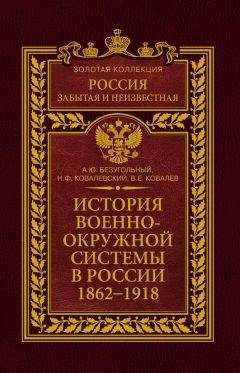– Польскими бьют, – прокричал поблизости пограничник, – через девять секунд рвутся!
Этого доктор Османьянц не знал. Да и откуда может знать об этом выслуживший вторую пенсию, старый-престарый военный врач? Но…
– А наши? – крикнул он.
– Четыре-пять…
На мгновение Османьянцу стало нечем дышать, словно тройка кованых коней взыграла у него на груди. Стенокардия? Это длилось мгновение. К черту стенокардию! Расчет прост и верен. И Османьянц снова швырял гранату за гранатой. Но только теперь он швырял не наши гранаты – ведь наши кончились, – а польские долгоручки. И они летели к нему, чтобы тотчас же вернуться назад и лопнуть среди немцев.
Не все гранатометчики сразу поняли, в чем дело. Одного или двух ранило. Зато остальные действовали наверняка. Впрочем, и гитлеровцы скоро раскусили фокус: долгоручки падали все реже. Разрывы их переставали сливаться в сплошной грохот. Вихрь другого, невидимого огня бежал по госпитальному двору: та-та-та… Османьянц поднял руку, чтобы взглянуть на часы. Что такое? Беленький круглый циферблат со стрелками на семи вдруг сжался, смялся и ушел в себя, превратясь в грязный комочек из эмали, стекла и металла. Под комочком заныла рука. Что такое? Ржаво блеснуло в мутных глазах нутро часов, и кисть руки бессильно повисла на бахромке из розовых жилок и мелких белых костей. Да что же это? Огненная боль обожгла перебитое место; грудь, живот, сердце Османьянца дрогнули и сжались, пронзенные этой болью. Зубы его скрипнули, голова запрокинулась. И, не коснись в этот миг его губ и щеки легкое дуновение свежего ветерка, он бы, конечно, не устоял на ногах…
* * *
К семи часам первая атака этого дня была отбита. Гитлеровцы отошли, но огня из скорострельных штурмовых орудий не прекратили. Теперь они били по окнам крепостной казармы прямой наводкой. Было около девяти, когда между давно заброшенными инженерными постройками четырнадцатого года, перед западным островом крепости, замаячила неприятельская разведка на мотоциклах. Здесь ее ждали пограничники. Они подпустили мотоциклистов под дула своих автоматов и уложили всех. Выехала конная разведка. И – тоже легла. Тогда повалила вторая атака. Крепость встретила ее ружейными залпами, густым пулеметным прочесом и метким снайперским огнем. Атака захлебнулась на полпути и отхлынула.
Переправив свои войска южнее и севернее крепости, гитлеровские командиры рассчитывали на быстрое окружение гарнизона и на полную изоляцию узлов сопротивления. Расчет был верен вообще. Но в его формуле отсутствовал очень существенный коэффициент: узлы сопротивления – прежде всего люди. А люди не хотели сдаваться. И выбить, например, пограничников, засевших у Холмских ворот крепости, на берегу Муховца, возле купы лохматых деревьев, густо заплетшихся над крышей красной казарменной стены, не удалось ни утром, ни днем. Так было почти везде.
Однако к полудню гитлеровцы все же проникли в город. Они достигли этого после жестоких боев у вокзала, на Пушкинской и Московской улицах, на улице Дзержинского. Теперь крепость оказывалась зажатой в плотном кольце пехоты, артиллерии и танков. Грозные машины уже продвигались к Тереспольским воротам. Если ворваться в крепость с ходу оказалось невозможным, то дело надо было решать «генеральным штурмом». На третью атаку сегодняшнего дня возлагалась задача окончательно и бесповоротно сокрушить Брест.
* * *
В полдень лавина из танков и автомашин со штурмовой пехотой прихлынула к крепости и разлилась по ее островам, западному и южному. Огонь по цитадели велся прямой наводкой из пехотных противотанковых орудий и полевых гаубиц. У Белого дворца, У церкви и казарменных стен, у каждого из сколько-нибудь приметных строений ревели снаряды, разрываясь и раскидывая кругом вихри осколков. Сквозь тучи пыли и дыма было видно, как пылают дома, обвитые красными жгутами пламени. Слышно было, как валится вниз что-то громадное, тяжкое. Асфальт под ногами корежился, как живой, и ломался, то проваливаясь куда-то вниз, то вспучиваясь на трещинах острыми горбылями. Очень ли помогала атакующим стрельба прямой наводкой? Они думали, что очень помогала. И хотя толстые стены оборонительной казармы держались как ни в чем не бывало, но гнезда сопротивления и вне и внутри цитадели с засевшими в них людьми никак не могли, по мнению гитлеровских командиров, устоять против ураганного обстрела такой невиданной силы. И командиры не сомневались в том, что все эти гнезда без исключения должны быть подавлены.
А между тем этого не случилось. Гнезда перемещались с чердаков под стены, из-под стен в подвалы, и не было в крепости угла, из которого не торчали бы дула. Поэтому, когда приземистые, широкие, ободранные осколками и обшарпанные пулями Тереспольские ворота пропустили, наконец, штурмовую пехоту атаки во двор цитадели, сразу заварилась самая крутая каша. Куда ни повертывались пехотинцы штурмовых отрядов, они везде натыкались на бесчисленные гнезда сопротивления, беспрерывно попадая под меткие выстрелы бивших на выбор снайперов.
Защитники цитадели отовсюду надвигались на штурмовиков, вклиниваясь между отрядами и блокируя их остатки с разных сторон. В неразберихе из домов, деревьев и обломков артиллерийские наблюдатели атаки уже не могли отличить своих от чужих, и огневая поддержка атаки начинала с каждой минутой все больше и больше слабеть…
Наконец настал момент, которого давно ждал засевший в гарнизонной столовой и много часов отстреливавшийся оттуда Юханцев. Почти все гитлеровцы, блокированные в крепости, были уничтожены. Артиллерия неприятеля молчала. Штурмовики отходили под густым ружейно-пулеметным огнем, стремясь до сумерек выбраться за реку. Настал момент, когда незваных гостей можно было проводить. Юханцев выбежал из столовой и огляделся. Ни души кругом. «Да куда же пропал народ?»
– Товарищи бойцы!
Он приложил к губам рупор из жарких, грязных ладоней и не крикнул, а заревел:
– Кто жив, друзья? За мной, за комиссаром! В контратаку!
Да, конечно, это было глупой ошибкой фашистов – думать, что гнезда сопротивления подавлены. Ничего подобного! На зов комиссара посыпались люди – из дверей и из окон, с крыш и с деревьев; они выскакивали из воронок и из подвальных люков, выбегали десятками из-за каждого угла. Они пристраивались друг к другу, брали ружья на руку к команде «коли» и кричали Юханцеву:
– Веди, товарищ комиссар!
* * *
И «генеральный штурм» крепости Брест был отбит. Солнце опрокинуло на землю море рубиновых блесков. Где-то близко прятались сумерки.
Фашист лежал на винтовке, разбросав по сторонам каску и котелок, круто выпятив живот и прикрыв его лиловой рукой. Из ранца выпали ножницы, зубная щетка, тюбик с пастой для полоскания рта, зеркало, шкатулка с нитками и красивенький, ярко блестевший пенальчик для иголок.
– Полное хозяйство!
– А то! Ты в него – очередь, а он знай себе зубы чистит.
Кругом засмеялись. Итак, солдаты уже могли шутить. Пронзительный свист одинокого снаряда привлек их внимание.
– Палили-то! Страсть! Я думал, и жив никто не будет!
– Да ведь мимо!
– И то – мимо!
Радостно видеть около себя знакомые лица, когда смерть прошла рядом. Это так радостно, что шутка сама слетаете запекшихся в корку губ.
* * *
Способность любящих людей к сближению безгранична. Кажется, так слились два человека, что живут как один. А толкнет жизнь, и еще глубже войдут они друг в друга, еще тесней сольются в единстве чувства, в сплоченности своей любви. Оле Юханцевой никогда не приходили в голову подобные мысли. Она просто любила отца и мать, даже и не зная, какие они и за что их надо любить, – просто любила. Но здесь, в полутемном подвале аптекарского склада, в душном воздухе, полном ядовитых испарений крови и больного человеческого пота, среди стонов и воплей, перед самым лицом неумолимой смерти множества людей что-то случилось с Олиной любовью. Здесь Оля поняла, за что она любит мать, за что невозможно не любить ее, и до того прониклась этой новой «доказанной» любовью, что сама стала почти такой же, как и мать…
Вот первые потери: Пинкин – левая рука; Казаков – правая нога; Уруднюк – контужен; Омельченко – правая нога; Офименко – голова и лопатка; Ковтун – рука; Мельник – контужен… Надежда Александровна и еще какие-то женщины, и Оля с ними, обмывали, перевязывали. Неловкая, неумелая Оля с изумлением и восторженной завистью смотрела на мать – на ее неслышную, летящую походку, на быстроту и легкость прикосновений, на уверенные движения смелых пальцев. Пришел Османьянц, в изорванной гимнастерке, без фуражки, с похожей на ржавую проволоку щетиной у висков и с перебитой кистью левой руки.
– Врачу, исцелися сам! – сказал он, мертвенно улыбаясь. – Пожалуй, придется откромсать…
И уперся плечом в сырую стену, такой же бледный, как стена. Оля сняла часовую браслетку с его раненой руки. Она старалась это сделать, как мать, – быстро и легко, и, вероятно, ей удалось так сделать, потому чтоОсманьянц не только больше не бледнел, но даже еще и улыбался, чуть слышно поскрипывая зубами. Впрочем, это было уже тогда, когда к нему подошел хирург.