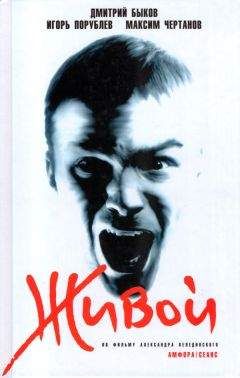Кир слушал вполуха. Он смотрел на Таню. Таня не села рядом с ним, и он не знал, как это понимать. Впрочем, она вообще не любила садиться на соседний стул в общих застольях. «Как свадьба получается», — говорила она, улыбаясь виноватой улыбкой, которую Кир не любил. Виноватая-то виноватая, но было в ней сознание правоты. То есть для тебя-то я повинюсь, чтоб тебе легче, но ты пойми, сейчас нельзя. Такое же выражение у нее бывало, когда она не давала. Извини, не хочу. А что я, машина, чтобы вот так сразу, по первому требованию? Иногда она не давала в самый неожиданный момент. Весь вечер гуляли, все нормально. Пришли к ней. И дома никого. И не дает. Виноватая улыбка. Перед армией, в последнюю ночь, так же улыбаясь, сказала: нет. А почему? А потому что вот вернешься, и тогда все будет. Это чтоб наверняка вернулся. Он страшно обиделся тогда: последняя ночь! Но она, значит, как знала. И может, если б все было, то он бы сейчас валялся в том снегу и вернулся бы уже призраком, как эти. А так — она его все два с половиной года хранила, только напоследок немножко не уберегла. Так на одну двадцатую примерно. Когда Кир на нее глядел, он понимал, что нога — фигня.
Таня не изменилась совершенно, и если она будет с ним, то везде прорвемся. Хорошая, красивая Таня. И дело не в том, что красивая, а в том, что не отсюда. Таня такая, что ни за что не будет драться, никакие блага не станет выгрызать, будет спокойно ждать, пока принесут на блюдечке. И что самое смешное, принесут. Таким всегда приносят. Еще когда она только вошла в класс, было ясно, что вошел человек взрослый, все про себя знающий. Кир никогда у нее ничего не спрашивал про то, кто был первый да когда началось: у них в классе многие в четырнадцать начали, сам он только из какой-то инстинктивной брезгливости терпел до пятнадцати. Но Таня явно все знала, да и какая разница — кто и когда первый. Бывают такие, что с рождения все знают. Таня была девушка сильная, в ней не было всей этой гнили, теснившейся вокруг. Стержень был. Он когда с ней был, то себя уважал. Мы ведь любим тех, с кем сами себе нравимся. С ней он нравился себе. Не Семина, с которой любой может. Таня — она… Удивительно, насколько не меняются такие бабы. Он замечал иногда — вот ей сорок, а выглядит лучше двадцатилетней; у них в Кораблине таких мало было, конечно. Но в Рязани он видел. С Таней годы тоже ничего не делали. Хотя какие годы — двадцать один… Не дело, чтобы такая сидела в палатке. Мы сделаем так, что она в палатке сидеть не будет. Она у нас будет так сидеть и так ходить, что вы все, бляди, обзавидуетесь, вы все поймете тут, в своем Кораблине, кто у нас тут живет. Странно, в Моздоке он от водки злился, а здесь добрел.
О черт, письмо, письмо Морозовой. Вспомнил про Моздок — все настроение испортилось. Но Таня, Таня… К себе поведет или останется? В палатку не пойду. Не буду в палатке. Пусть остается здесь.
Они ничего друг другу не успели сказать. Мент действительно ее предупредил, она позвонила, мать сказала — приходи. Вот, пришла. Принесла ликер какой-то иностранный. Наверное, из палатки. Свитера этого он на ней не видел, новый свитер. Ну а что такого, что ей, три года старье носить? Не будет такая баба старье носить. Таня, золотая голова.
— Ну? — спросил он Игоря, понимая, что вопрос жестокий, а что делать? Что, только о плохом говорить? — Как тебе?
— Ничего, вкусно.
— Я не про то, Игорь. Я про Таньку.
— Рыжую?
— Сам ты рыжий, блядь. Золотая.
— Ну клевая телка, конечно. Молодец, Кир.
— Как думаешь, срастется все?
— Ну почем я знаю, Кир. Ты ж с ней был, не я.
— Ну, может, интуиция какая особенная. Просекаешь чего-то, чего люди не видят.
— Нет. Это ты брось.
— Ты с кем разговариваешь? — спросил мент, сидевший справа и порядочно уже набравшийся.
— Да глюк у тебя, — сказал Кир.
— А… А ты скажи, Серега, вот ты людей убивал?
— Нет, блядь, он исключительно только пальцем в жопе ковырялся, — издевательски сказал Никич.
Мент пристально посмотрел на него, встряхнул головой и снова обратился к Киру.
— А я убивал. — сказал он. — Бля буду, убивал.
— Ага, — сказал Никич, — ногами в дежурке. Я твой пиздец, понял? Я совесть твоя! Я самое ужасное привидение!
— Слушай, кончай, — засмеялся Кир.
— Бля буду! — повторил мент. — Точняк. Я ж зону охранял. На меня попер один. В побег шел. Потом выяснилось — матерый уголовник. Ма-те-рый! — Это слово ему очень нравилось. — Он бежал… он знаешь, сколько раз до этого бежал? Это у него был третий побег, не то четвертый! Вру! Вру! Пятый!
— Шешнадцатый, — сказал Никич. — И все в него стреляли, и все попадали. Тоже наш брат призрак был, нет?
— Ух, ух, я малютка привидение! — заухал и Игорь.
— Ну харэ! — взмолился Кир, корчась от смеха.
— Чего ты ржешь? Ты не веришь?! — обиделся мент. — Бля буду!
— Да ты уже, — сказал Никич.
— Я стреляю, — продолжал мент, — а кишки… кишки синие!
— У тебя, что ль? — продолжал издеваться Никич. — Это бывает. От страха кишки наружу, блядь. Высрал кишки. И они синие.
Кир корчился, но ржать в голос себе не позволял. Хули, мент. Может обидеться. Начнет палить. Перестреляет тут всех до синих кишок. Кроме того, надо иметь в виду начфина.
— Да плюнь ты, Кирюха, — сказал Игорь. — Не было никакого начфина. Тебе привиделось.
— Точно мысли читаешь, — сказал Кир. — Что ж ты врал, блядь? Не лезь в мою голову!
— Я не лезу, — сказал мент и отодвинулся.
— Ты сам вслух говоришь и не слышишь, — вступился за Игоря Никич. — Ты сам сейчас сказал: начфин.
— Не может быть.
— Точно. Следи за собой, будь осторожен.
— Так что убивал, да, — сказал мент. — Кишки, блядь. Сколько в человеке кишок. Я никогда не думал. Синие от крови, наверное. Жилы же тоже синие.
— От холода, еб-ты, — сказал Игорь. — Это же зимой, наверное, было, на Крайнем Севере, в районе Воркуты.
— Не, под Омском, — поправил мент.
— Этому больше не наливать, — сказал Игорь. — Он нас уже видит.
Кир расхохотался.
— Чего ржешь? — обиженно спросил Игорь.
— Да чего, чего… Сейчас все ужрутся и вас увидят: как я наутро буду объяснять, откуда тут взялись двое в камуфляже? Блядь, вот какие черти пошли… Раньше все чертей видели, а теперь, блядь, двоих в камуфляже…
— Заебал ты, Кир, своим юмором, — обиженно сказал Никич. — Ты жри давай, а то сам уже без закуски набрался. Сейчас еще кого-нибудь убьешь на хуй.
— Слышь, Илья, — спросил Кир соседа слева. — А чего Толян не пришел?
— Толян товар из Москвы гоняет, — солидно сказал Илья. — В люди вышел.
— Ни хуя себе в люди. Если б он в люди вышел, он бы точку держал. Крышевал бы.
— Сейчас другое, — сказал Илья. Он был молчалив и толст уже в школе. Бывало, слова не выцедит — пыхтит, пыхтит, тяжело ворочает мысли. — Сейчас поубивали всех, которые крышевали.
— А кто крышует?
— Другие пришли. Хуй его знает, что это за люди.
— Чего, кавказцы?
— Да не. Совсем новые.
— ФСБ? — для хохмы спросил Кир.
— Я не ебу.
— А. Оно и видно. — Кир налил Илье и себе. — А Толян чего?
— А Толян товар гоняет.
— Что за товар?
— Мануфта.
— В смысле?
— Ну мануфта, мануфактура. Хуйня всякая. Кофты, блядь. Тапочки.
— Ага, — сказал Кир. — А чего, свои не делают уже?
— У нас ни хуя не делают, — сказал Илья и выпил.
— Оно и видно.
Киру было обидно, что Толян не пришел. Это был не то чтобы лучший друг. Кир не хотел бы с ним оказаться на войне, потому что в надежности его вовсе не был уверен, — Толян был хитроват и скользок, но это у него как-то мило выходило. Он вечно что-то мутил, затевал. Это он придумал расписаться всем на бутылке и сохранить ее до Кирова возвращения, а потом всем вместе распить. Сейчас ее распивали без Толяна. С водкой за три года что-то случилось — не то она частично утратила крепость, выдохлась, что ли, и вкуса почти не было. Надо было, наверное, распивать втроем, тем же составом, каким расписывались на этикетке. Вообще ничего нельзя откладывать: вот, вернемся, выпьем… заработаем, женимся… Все надо делать сразу, через минуту уже не хочется.
Вошла мать, внесла поднос с уткой. Этот поднос был старый, с советских времен. Жостковский, или как он еще назывался. Утка была редким лакомством даже при отце. Матери она очень удавалась, лучше пельменей, и она говорила, что делает утку по-пекински. Рецепт ей рассказала давным-давно заезжая китаянка. Настоящую утку по-пекински Кир никогда не ел, сравнить ему было не с чем, но блюдо было волшебное и вкус — как в детстве. У языка и носа своя память, откусишь кусок утиной ноги — и вспомнишь все, про что и не думал сто лет.
— Ребята, поднос уберите, — сказала мать. — Видали, какой Кир мне поднос привез? Красота, да?
— Ой, красота, — сказала Семина. — Я прямо не знаю. У нас я похожий видела в универсаме, но совсем не такой. Никакого сравнения.