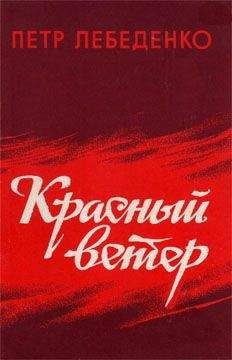— Леон Бруно, мадам, к вашим услугам! — Моссан приподнялся и склонил голову перед мадам Лонгвиль.
— Так вот, давайте выпьем с вами по рюмочке, мсье Бруно, и пускай на душе у каждого из нас станет легче.
Они выпили, и через минуту-другую Моссан сказал:
— Вы высказали предположение, мадам, что я, возможно, попал в беду. Вы нисколько не ошиблись — я действительно попал в беду, и единственным моим утешением является то обстоятельство, что в наше время в беду попадает каждый, кому еще дороги собственная честь и собственное достоинство.
Моссан помолчал, и так как мадам Лонгвиль лишь кивала головой в знак согласия и не осмелилась задать какой-либо вопрос, он продолжал, грустно улыбнувшись:
— Одиссея Леона Бруно, мадам, — это одиссея тысяч и тысяч французов, не желающих безучастно смотреть на то, как Франция катится в пропасть. Поверьте моему слову, если ничего не изменится — с нашей родиной произойдет то, что произошло с Германией: по Елисейским полям и Большим бульварам вскоре затопают башмаки фашистов, последышей Гитлера, который превратил свою страну в огромный концентрационный лагерь…
— Спаси нас, всевышний, от такого горя, — перекрестилась мадам Лонгвиль. — Но, мне кажется, вы преувеличиваете, мсье Бруно. Во Франции немало смелых и честных французов, способных отвести от нас подобную беду.
Моссан покачал головой:
— Смелых и честных французов немало, мадам, но, к несчастью, не они делают погоду…
— Да, это так, — согласилась мадам Лонгвиль. — И все же не следует видеть мир в таких черных красках… — Осторожно дотронувшись до его колена, она продолжала: — Мсье Бруно, не знаю, поймете ли вы старую женщину, но я должна вам сказать: люди, подобно мне прожившие долгую и нелегкую жизнь, чужое горе привыкли принимать как свое собственное. И еще такие люди всегда убеждены: большое горе нельзя носить в себе, не поделившись им со своими друзьями. Нельзя, мсье Бруно, это иссушает человеческую душу. И если вы… Может быть, я смогу чем-нибудь вам помочь…
— О, вы очень великодушный человек, мадам, — мягко сказал Моссан. — Но… Помочь мне никто, пожалуй, не может. По крайней мере, в настоящее время. А горе мое… Сейчас в такие переплеты попадают многие…
И Моссан рассказал.
Более десятка лет он работал авиамехаником. Все было хорошо, у начальства он был на неплохом счету, летчики его тоже уважали. Казалось, так и будет продолжаться однако совсем недавно в кругу своих друзей он неосторожно обмолвился, что завидует некоторым летчикам, решившим перебраться за Пиренеи и вступить в схватку с фашистами. Он сказал, что там, в Испании, честные французы защищают не только свободу испанского народа, но и свободу Франции… Оказалось, что среди так называемых его друзей нашелся предатель, сразу же донесший на него начальству. И…
— Все потом решилось быстро, — печально улыбнулся Моссан. — Уже на второй день меня вышвырнули вон из авиационной части и даже предупредили, что если не перестану разглагольствовать о своих идеях насчет защиты свободы Франции за Пиренеями, меня заставят замолчать.
Моссан внезапно оживился, и мадам Лонгвиль увидела, как загорелись его глаза. Он неожиданно для нее пристукнул кулаком по столу и твердо проговорил:
— Но замолчать они меня не заставят! И не заставят отказаться от желания разделить в Испании участь моих друзей-летчиков. Я найду туда дорогу, мадам, или перестану себя уважать как человека!
Мадам Лонгвиль слушала Моссана, затаив дыхание. Она не знала почему, но чувствовала себя так, словно и сама разделяла участь тех, кто сейчас дерется с фашистами в Испании или собирается туда отправиться. Провидение ниспослало ей бесценный дар общаться с людьми, всегда чем-то похожими на ее Пьера Лонгвиля. Арно Шарвен, русский летчик Валери Денисов, друг Арно Шарвена Гильом Боньяр, теперь вот Леон Бруно… Леон Бруно… Господи боже ты мой, да ведь Арно Шарвен не раз и не два упоминал это имя, и не только упоминал, но и говорил о нем, как о прекрасном товарище! Вот что значит старческая дырявая память, сквозь которую, будто через решето, все просеивается и ничего не остается. Слава всевышнему, он все же дал ей чуткое сердце, а оно никогда не обманывает. Сразу ведь, сразу она увидела в Леоне Бруно настоящего, честного человека…
Все же она спросила:
— Окажите, мсье Бруно, вы знали летчика Арно Шарвена? Он служил в авиационной части, там, где истребители.
— Арно Шарвена? — Моссан взглянул на нее так, точно был поражен ее вопросом. — Как я мог не знать этого человека, мадам, если служил вместе с ним! Но почему вы о нем спросили? Вы тоже были с ним знакомы?
— Да, мсье, — с гордостью ответила мадам Лонгвиль. — Да, мсье, я была знакома с ним, и, если позволите, мы считались друзьями. Вот здесь, за этим самым столиком, мы часто просиживали за стаканчиком вина, и я смотрела на него, как на своего сына. Как на своего родного сына, мсье, потому что очень его любила.
Моссан улыбнулся:
— Мы почему-то говорим об Арно Шар вене в прошедшем времени. А мне известно, что он жив и здоров, и, я надеюсь, мадам, скоро его увидеть. — Он на секунду умолк, и мадам Лонгвиль увидела, как преобразилось его лицо. Оно стало мягче, исчезла печаль. — Это удивительный человек с удивительной судьбой. Летчик самого высокого класса, он был изгнан из авиации лишь за то, что осмелился полюбить девушку не своего круга. К счастью, девушка оказалась достойной его любви… Да зачем я вам об этом рассказываю, мадам, вы ведь, конечно, и без меня знаете Жанни де Шантом, простите, Жанни Шарвен.
— Еще бы я ее не знала, мсье! — воскликнула мадам Лонгвиль. — Совсем недавно я видела ее так же, как вижу сейчас вас. Бедняжка извелась в тоске по своему супругу, но держится стойко, хотя ей и нелегко это дается.
— Ей лучше бы уехать из Парижа, — сказал Моссан. — Фашистская банда не простит поступка Арно Шарвена, и свою месть может обрушить на самого близкого для него человека.
Мадам Лонгвиль заговорщически улыбнулась:
— Мы все это предвидели, мсье Бруно. Она уехала сразу же, как только Арно Шарвен перелетел туда. Слава богу, люди, у которых она живет, оказались славными. У них своя ферма, недалеко от Монпелье, Жанни помогает им по хозяйству и не чувствует себя иждивенкой. Она говорила, что сестра Гильома Боньяра, да и ее муж, хозяин фермы, чудесные люди, с которыми легко ладить.
— Да, да, недалеко от Монпелье, — повторил Моссан. — Чудесные люди… Ферма недалеко от Монпелье…
Мадам Лонгвиль вскинула на него глаза — ей вдруг показался странным его голос и показалась неестественной его улыбка. «Господи Иисусе, — сказала самой себе мадам Лонгвиль, — моя мнительность становится похожей на наваждение. Человек улыбается потому, что ему приятно слышать хорошее о своих друзьях… Да, но как он улыбается?»
— Вы сказали, Жанни Шарвен живет у сестры Гильома Боньяра? — спросил Моссан. — А ведь Гильом Боньяр тоже в Испании. Не так ли, мадам?
Мадам Лонгвиль не ответила. Вдруг нахлынувшее на нее подозрение, что ее собеседник не тот человек, за которого себя выдает, усиливалось с каждым мгновением, и отрешиться от этого подозрения она уже не могла. Неожиданно она вспомнила, как Жанни в последний свой приезд говорила: «Не могу утверждать точно, но у меня такое чувство, словно кто-то разыскивает мою персону. Может быть, разыскать меня поручил господин де Шантом, а может быть, тот, кто хочет отомстить моему Арно… Так или иначе, но я все время настороже…»
— Почему вы молчите, мадам? — переспросил Моссан. — Вы сказали, что Жанни Шарвен живет у сестры Гильома Боньяра, вместе с Шарвеном улетевшего в Испанию?
— Я сказала, что она жила там когда-то, а где она живет сейчас — я не знаю. Вероятнее всего, она оттуда уехала.
— Но вы минуту назад говорили, что совсем недавно вот за этим столиком сидели с Жанни Шарвен за стаканчиком вина, — напомнил Моссан. — Или я ослышался?
— Простите меня, мсье… — мадам Лонгвиль сделала паузу, потом продолжила — мсье Бруно. Я уже изрядно с вами засиделась, а скоро явятся вечерние посетители. Мне надо приготовиться их встретить.
Моссан встал. Поднялась со своего места и мадам Лонгвиль. Несколько секунд они стояли молча, разглядывая друг друга, затем Моссан сказал:
— Благодарю вас за беседу, мадам. Она была очень приятной и оставила у меня хорошее чувство. Надеюсь, мы с вами еще увидимся.
И, коротко поклонившись, вышел из кафе.
* * *
«Боже праведный, я совершила непростительную глупость! — мадам Лонгвиль до боли сцепила пальцы. — Этот Леон Бруно такой же Леон Бруно, как я мадонна сикстинская… Он выведал у меня все, что ему было нужно, и теперь потирает руки… А я…»
Насколько минут мадам Лонгвиль взад-вперед ходила по комнате, кляня себя за доверчивость и болтливость, потом внезапно остановилась, и лицо ее просветлело. Она сейчас же даст телеграмму и в осторожной форме предупредит Жанни. Подскажет ей, что надо немедленно покинуть ферму вблизи Монпелье, хотя бы на время.