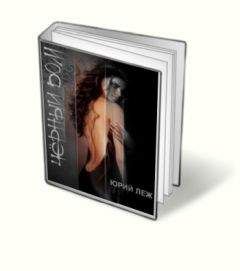17
Он замер на желтом островке, отвоеванном у тьмы бликами сочащегося из щели света, и, толкнув раму, распахнул окно. Показалось, что стекло мешает смотреть на пламенеющую белую звезду. Скользнул взором по дымчатому, вымороженному январем небу, глубоко втянул в себя отсыревший воздух, надеясь уловить дальние ароматы весны. Любил он серую матовую петербургскую зиму и голубую хрустальную болдинскую осень, но сейчас он мечтал о весне, терпкой зеленой весне, когда холодок хоть и пронизывает до костей, но зато лучи солнца начинают греть уже по-иному, чем в прозрачные морозные дни. Он нуждался в освобождении, которое приносит с собой мартовское тепло. Он не хотел думать ни о чем печальном — ни о надвигающейся дуэли, ни о Соловках, призрак которых гонялся за ним издавна, с той достопамятной беседы в кабинете у графа Милорадовича. Он опять вернулся к столу и поднес письмо к глазам. Достаточно ли он тверд? Да, несомненно. «Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и — еще того менее — чтобы от отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто трус и подлец».
Нет, нет, после дуэли, должно, сошлют в деревню, то бишь в Михайловское, и тут-то примусь работать систематически. Утро буду начинать с прогулки, потом завтракать, потом за бюро. Пить буду исключительно колодезную воду. Летом устрою себе купания. Сяду опять на лошадь. Чудно потечет моя жизнь.
Ребятишками прежде занимался от случая к случаю. Что гувернеры, французы там приезжие или немцы? Я первый им гувернер. Кто, как не я, программу им составит образовательную? Кто проследит за серьезным направлением мысли? Раньше мало обращал на них внимания. Дурной отец, дурной. А теперь все по-другому, все! Буду водить их на солнечную сухую опушку и там обучать премудростям по совету знаменитых утопистов. Играми, не принуждением знания легче достанут. Парту долой, пусть резвятся на лужайках, возле реки да в поле. А коли повезет возобновить журнал, статьи про собственный опыт не премину публиковать в изобилии. И о науках тоже. Что за государство без наук, без приспособлений технических для различного труда, без аграрных новшеств? Про то печатал, но более надо и авторитетнее.
Да, ребятишки… От них дело и покатится. Надо прививать им любовь к библиотеке. Чтение — корень образования, которое есть не что иное, как вовремя усвоенная книга. Вовремя! Кой прок, если человек о гомеровской «Илиаде» узнает в преклонном возрасте?! Самые-отзывчивые годы канут в Лету, и величие, смелость и благородство характера он не примерит к себе. Только в юности к книгам относятся, как к правилам нравственным. Если этот момент упустить, то воспитание прахом пойдет. И литературу будут по-прежнему считать чем-то вроде аккомпанемента послеобеденному отдыху или, того хуже, чтоб крепче спалось. Впрочем, опусы многих на большее и не годны.
Он улыбнулся мыслям. Куда меня занесло! Сжал щеки ладонями, и нахлынуло снова Царское. Дортуар, кровать, умывальник. Сладостные мгновения юности внезапно предстали перед ним, стесняя грудь. Нет! Ребятишек он доведет до толку сам. Он не отдаст их никому. Вот и случай выпал. Деревня! Деревня! Спасительное прибежище. Зачем, чтоб маялись под присмотром глупых дядек или злобных педелей? Да всякие гнусности преодолевали… Нет, нет, он ими займется. Он заменит им учебные заведения. Уж что-что, а словесность и языки вызубрят назубок, но и наук математических не избегнут. Кого б это к ним пригласить? А дальше Дерпт, Геттинген, Сорбонна. И в Италию отправлю, коли денег заработаю.
Италия, сказывают, удивительная страна. Народ карбонаров, поэтов и художников. И в Венецию, в старую республику, полезно съездить. Пусть побродят по площади святого Марка. Ему не суждено, так хоть дети испытают всю прелесть свободного путешествия. И в Грецию, и в Испанию отправлю… Бог мой, никакой логики. Сперва в Грецию, потом в Рим, затем в Испанию и Францию, затем в Англию ненадолго, там климат гадок, а уж на закуску к скучным немцам — в Геттинген или еще куда. А лучше бы назад, в Москву, в университет. Образование завершать полезно на родине. К тому времени обстоятельства поправятся и наука наша, отечественная, покинет задворки и выйдет вперед европейских. Беда, что при Уварове словесность в загоне, профессорскими кафедрами торгуют, везде приятельство процветает, а истинные таланты, будто подорожник, чернь топчет. Почему бы Чаадаеву не взойти на кафедру? Ведь от нашего времени единый философ останется — он!
Впрочем, нет, в Геттинген, в Геттинген! И девочек обязательно учить не просто танцам да вышиваниям. Они нынче далеко глядят. Допустим, Жанлис дура, но есть же и де Сталь — наша, умница, орлиного полета женщина. Есть в ней античные черты. Вот бы Машке моей! И лучше управиться можно, если с детства момента не проворонить. Какой случай выпал! И ссылка после дуэли в Михайловское вдруг увиделась ему издалека счастливым близким временем.
Он вздохнул и прикрыл веки. Чутко прислушался, прислонив голову к раме, как бы задремал. Чу! За стеной ворочался, терзаясь бессонницей, Пущин. Кряхтел, шаркал стулом. Зачем он ночью передвигает мебель? Верно, трусит родителя, который обещался выпороть. Оттого и неймется бедняге. Ах, Пущин, Пущин! Честный, добрый Пущин! За два года до Сенатской составил план пойти в квартальные надзиратели и на сем благоуханном поприще сослужить службу России. С взятками бороться насмерть, воровству не потворствовать ни под каким видом и за рукоприкладство особо строго наказывать. Пущин — квартальный! Вяземский тоже с идеей неординарной возился — сорганизовать журнал честного жандармства, чтоб на негодяев да воров острые критики публиковались. Разве жандарм-ство честным способно обернуться? Нет, тут иное надобно. Искоренить испорченные нравы и привить народу благие. А каким путем, какими средствами? Марат полагал, что через правильное и разумное общественное устройство. Хорошо бы, но сомнения одолевают. Разве депутаты французского народа когда-нибудь выполняли взятые на себя обязательства?!
Сейчас он упадет в постель, крепко зажмурит глаза и, забросив ладони под затылок, примется рисовать идиллические картинки времяпрепровождения с Наташей и ребятишками на лоне природы. Неясные мечты, сладкие воспоминания и размытые, как во сне, строки обрушат сверху, с потолка пенистый водопад забвения, который поглотит его без остатка, и он скоро погрузится во тьму, ощутив с детской радостью, как противные ледышки ног помаленьку теплеют. Очнется он поздно, когда лучи белого январского солнца тронут веки, раскрепощая скованное тело.
Да, да, теперь, когда письмо к де Геккерну кончено, он выполнит желание и заснет, заснет, заснет. Но прежде еще несколько мгновений подумает. Он любил, лежа на диване, воображать с подробностями, как наяву, бело-оранжевый, полыхающий под ветром березняк, бескрайней поле, растянутое кривыми проселками, горницу с косым подслеповатым оконцем, поющих девок в плотном ряду на лавке, снежную — волчком — вьюгу, поднебесные, окутанные сиреневой мглой скалы и черные ущелья без дна, в которые он — напоследок — нырял головой.
Он любил перед сном вспоминать, как свежее острое перо скользит по шероховатой поверхности, то свободно, то потрескивая от натуги, разбрызгивая вязь черных клякс к низу страницы. Он поежился от привычной боли в плече, будто занемело оно от конторки. Стосковался он по ней, по отполированному прикосновениями дереву, по необычайному цвету с золотистым отливом, животворному, не тусклому, меняющему оттенок в зависимости от освещения: днем одно, при свечах другое. Простые подробности земного существования были для него очень важны. Он научился извлекать из них спокойствие, равновесие, уверенность.
Внешнее благополучие не соответствовало внутреннему состоянию. Внутри бушевали таинственные силы природы, извергались вулканы, пели птицы, громко обменивались мнениями спорщики, волны разбивались о берег на тысячи капель, стреляли мощные мортиры, свистели пули, лошади топтали вскипающий под ветром ковыль, стоны раненых тревожили безмолвие ночи, на хорах мелодично играли музыканты, гирлянды белых и красных гвоздик распространяли аромат, звучали медью торжественные рифмы, девичий жаркий шепот подкрадывался к уху, странные и великолепные здания бесшумно вырастали из-под земли, и все эти случайные и разрозненные обломки мечтаний и действительности на следующий день обретали другую плоть, плоть, соотнесенную не только с мыслью, но и со временем, о котором он думал и писал. Зыбкое, фантастическое приобретало завершенные реальные формы, и казалось, что сон служил и впрямь мастерской, где господствовали свои суровые законы и порядки, где хозяйничала гармония и выковывался его чудесный стих.