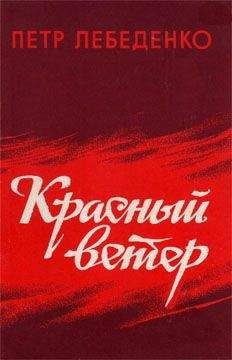— Я плохо разбираюсь в политике, Кристина, — сказала Жанни. — Но я не думаю, чтобы мой отец желал позора для Франции.
— Не знаю, не знаю, — ответила Кристина. И добавила: — Давайте-ка лучше поговорим о другом. Как вы нашли Париж после долгой с ним разлуки?
Жанни пожала плечами, произнесла:
— Парижане, по-моему, изменились…
Они говорили о Париже. Кристина обладала изрядным запасом юмора и, представляя сценки из жизни улиц, подмеченные-ею в разное время, до слез смеялась сама и смешила Жанни.
Когда Кристина уходила от острых вопросов, касающихся войны, фашизма и вообще политики, она совершенно преображалась. Даже преждевременные морщинки разглаживались на; лице, и вся она была совсем домашней, беззаботной и веселой.
Внезапно туча накрыла Париж и начался дождь. За окном; потемнело. Кристина хотела включить свет, но Жанни попросила:
— Не надо, Кристина, так лучше…
Она слышала падающие тяжелые капли, и ей казалось, что густая сетка дождя отгородила их с Кристиной от не всегда понятного и немыслимо огромного мира, в котором она может безнадежно затеряться, если останется совсем одна. Может быть, и вправду само провидение подсказало ей мысль обратится к Кристине?
Неожиданно Жанни спросила:
— Скажите, Кристина, я не подвергаю вас опасности? Они ведь знают, что вы вдова коммуниста… И если меня найдут у вас…
Кристина не дала ей договорить.
— Вы подвергаете меня опасности не больше, чем себя. Будем более осторожны, вот и все. А вообще вряд ли они сюда сунутся. Чего им взять с простой консьержки?
— А ваша хозяйка?
— Мадам Штирре? Вы знаете, что она немка, но не знаете, как она ненавидит всех этих идиотов барабанщиков! «Этот полоумный ефрейтор, — говорит она о Гитлере, — или потопит весь мир в крови, или — помоги нам всем в этом господь бог — мы увидим, как он будет раскачиваться на перекладине».
Они засиделись далеко за полночь. А когда Кристина уложила Жанни спать, та долго не могла уснуть. Перед глазами одна за другой вставали картины-воспоминания, вставали образы людей, и все это было похоже на немой фильм без начала и без конца, и Жанни смотрела его с тревожным ощущением человека, который в этом фильме играет не последнюю роль. Вот перед ней сидит отец, смотрит на нее недобрыми глазами, он что-то говорит, но слов, как и должно быть в немом фильме, Жанни не слышит, однако по движениям его губ и по выражению лица она все понимает. «Знаешь ли ты родословную Шарвенов? Ты ее и не можешь знать, потому что никакой родословной у Шарвенов нет и не могло быть. Как у бродячих собак. И если я когда-нибудь увижу в своем доме твоего возлюбленного, я вышвырну его, как бродячую собаку… А заодно и тебя вместе с ним…»
Потом они с Арно рассматривают старую, потертую карту, и опять Жанни по движению губ и выражению лица мужа улавливает каждое его слово, хотя по-прежнему ничего не слышит: «Посмотри сюда, дорогая… Это — Сан-Себастьян. Это — Ирун. А рядом — наша Франция. Наша родина, Жанни. Когда-то Бисмарк мечтал „приложить горчичник к затылку Франции“. Фашизм Германии и Италии руками Франко уже извлек этот горчичник из своей страшной аптеки..»
А вот полицейский Плантель, с ног до головы облепленный грязью, у него большие, с беспокойным блеском глаза, похожие на глаза забившегося в угол клетки лемура. «Сейчас полночь… второй час… Самое большее, через пять-шесть часов сюда явятся инспектор полиции и полицейский. Явятся для того, чтобы арестовать мадам Шарвен…»
Жанни говорит самой себе: «Довольно! Я устала, я хочу забыться!» Но тут перед ее глазами встает новая картина. Кистью, с которой на тротуар падают сгустки красной краски, фашистские ублюдки тычут в лица парня и девушки. И эти лица кажутся Жанни измазанными кровью…
Незаметно надвинувшаяся на Париж туча ушла на запад, и Жанни видит в окно совсем черное небо. Совсем черное. И почему-то не видит ни одной звезды. И вспоминает, как когда-то Арно сказал: «Парижское небо не может быть совсем черным. Это я тебе говорю. В нем даже ночью светится синева…»
Арно… Если бы он знал, как тоскует по нем душа. Где он сейчас, ее Арно? Может быть, в этот час он летит вот в таком же черном небе и пристально вглядывается в кромешную тьму, отыскивая врага… А может, лежит на испанской земле под обломками своей машины и мертвыми глазами смотрит в бесконечность, только минуту назад расставшись с жизнью…
1
Арно Шарвен как-то сразу заметно сдал.
И не потому, что его до крайности изматывали полеты, — полеты изматывали всех, но это уже вошло в привычку, хотя, казалось бы, нельзя привыкнуть к мысли, которая никого не покидала: вернешься ли ты из очередного боевого задания или разделишь участь того, кто полчаса назад курил вместе с тобой последнюю сигару, а сейчас его уже нет среди живых.
О таких вещах не принято было говорить.
Правда, американец Артур Кервуд не подчинялся общему правилу. Каждый раз, набрасывая на плечи лямки парашюта, он говорил: «Эй вы, там! Сеньоры пилоты! Прошу на меня все глаза обратить, так как видеться с меня больше придется не будет. Я ясно очень говорю? Мое сердце чувствовать умеет приближение гроб и музыка…»
— Вот же остолоп, — сердился командир эскадрильи мексиканец Хуан Морадо. — Как ворон каркает.
А Кервуд смеялся:
— Все, что мне положено, кое-какие деньги — купить приказываю виски и помянем Артура Кервуда, очень летчика храброго. О'кэй? Мисс Эстрелья получает две дозы.
Однако Артур Кервуд — исключение. «Его не переделаешь, — говорил комиссар Педро Мачо. — У него это, наверное, как талисман».
Арно Шарвен предпочитал ничего не загадывать. К гибели летчиков интернациональной эскадрильи он относился как к неизбежному злу, остро переживал потери и испытывал такое чувство, будто всякий раз ему наносят незаживаемую рану.
Но вот не вернулись Гильом Боньяр и Денисио. Надежды на то, что однажды кто-нибудь из них вдруг появится вновь, ни у кого больше не оставалось. И у Арно Шарвена тоже. Может быть, он только сейчас до конца осознал, кем для него были Гильом Боньяр и Денисио. Теперь он связывал с ними все, чем жил, клял себя за то, что не всегда ценил их дружбу в той мере, в какой должен был ценить. И ходил потерянный, став нелюдимым и раздражительным. На висках его появился первый иней.
Раньше доброжелательный и корректный, теперь он даже с Эстрельей, которая страдала не меньше его, подчас разговаривал таким тоном, точно она была в чем-то виновата.
А Эстрелья тянулась к Шарвену, ища в нем родственную душу, с которой она могла бы поделиться своим отчаянием.
— Мне рассказывали, — говорила она Шарвену, — что бывали случаи, когда сбитые летчики возвращались даже через полгода.
— Кто вам рассказывал эти сказки? — прямо-таки обрывая ее, спрашивал Шарвен. — Какой идиот мог придумать подобную чушь?!
Эстрелья делала вид, будто не замечает грубости Шарвена. Никто ей ничего такого никогда не рассказывал, но она очень, хотела услышать от летчика подтверждение своим тайным мыслям, очень хотела, чтобы он вселил в нее хотя бы призрачную надежду.
— А почему нет? — В глазах у нее стояли слезы, которые Арно Шарвен не хотел замечать. — А почему нет? Испания не такая уж маленькая страна. У нас кругом горы. Возможно… где-то человек выбросился на парашюте, кругом враги, вот он до поры до времени и скрывается где-нибудь у добрых людей. Разве такое исключено?
Арно Шарвен изображал на своем лице улыбку, полную скептицизма:
— Моя мать говорила: «Блажен, кто верует…»
— «Блажен, кто верует…»? — Эстрелья ненадолго задумывалась, потом говорила: — А разве можно жить без веры? Я имею в виду веру, которая поддерживает дух человеческий. И не дает человеку в своем горе забыть доброту и уважение к ближнему.
— Вы кого имеете в виду? Меня?
— Да, господин Шарвен, вас. Вы стали совсем другим. — Она, не найдя отклика, начинала не на шутку сердиться. — В вас ничего не остается товарищеского.
— Поэтому вы называете меня господином?
Эстрелья уходила, давая себе твердое слово никогда больше не говорить с Шарвеном на эту тему. Однако, видя, как он глубоко страдает, уже на другой день снова подходила к нему, теперь уже желая не столько утешить себя, сколько Арно, опять пыталась убедить его в том, что еще не все потеряно и надо надеяться.
* * *
В эскадрилью Хуана Морадо прислали пополнение: русского летчика под именем Мартинес, испанца Кастильо и венгра Матьяша Сабо. Все они летали в одной части под Мадридом, хорошо знали друг друга, и Хуан Морадо соединил их в одном звене.
Мартинесу было двадцать три года, но выглядел он старше. Медвежеватый, с волевым квадратным подбородком и рано залегшими над переносицей глубокими морщинами, по земле он ходил так, точно старался определить ее прочность: ступит одной ногой, вдавит своей тяжестью скупую траву и как бы с большой неохотой поставит вторую…