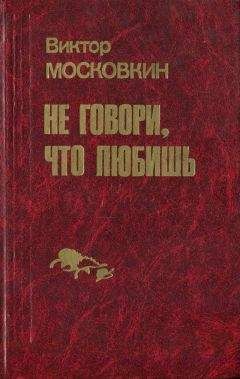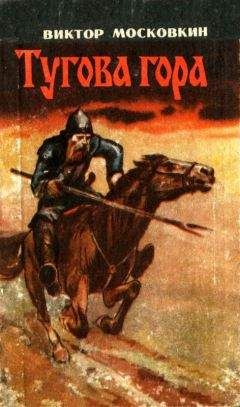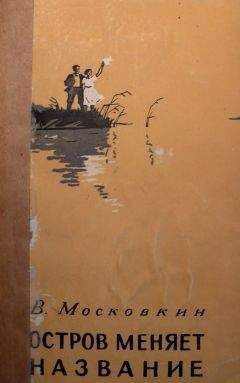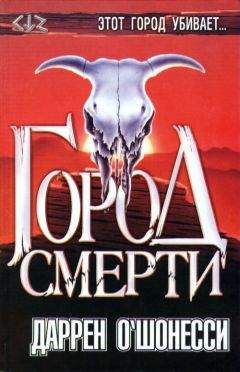— Ну и не жалей, батя. Что у вас там было в те годы, еще понять можно, мы попали в катавасию похуже. Вот вроде и знали, что воевать придется, готовились, а немец все спутал, вон куда залез, под самую Москву аж, откуда только сил набрал. Правда, вся Европа, подмятая им, ему помогает, на него работает. И все же… Твой-то родственник без пятки переживает сильно, так? Ходить не может?
Может, он все может. Он и без пятки хорошо бегает, сразу помрачнев, непонятно ответил Максим Петрович.
Он сходил к крану, налил свежей воды себе и инвалиду. Тот поблагодарил: прыгать на одной ноге по скользкому полу было небезопасно.
— Внуки твои мальчишки-то?
— Внуки? — удивился Максим Петрович: с чего это инвалиду вошло в голову? — Нет, работают у меня. Ученики.
— Ученики, а так неуважительно, — осуждающе сказал инвалид.
— Так ты сам заметил — мальчишки! — встопорщился Максим Петрович. — Что с них взять?
Инвалид с удивлением покосился на него, не зная, как отнестись к его вспышке.
— Ты сперва рассуди, потом осуди, — назидательно добавил Максим Петрович. — Между прочим, эти мальчишки делают не меньше взрослых. Кабы ты видел, как они работают. Загляденье! И не требуют ничего себе. Кабы ты видел, так и не говорил.
— Что ты, батя, я не хотел ни тебя, ни их обидеть, — смущенно сказал инвалид. — Просто увидел — дети…
Но Максим Петрович, взгорячившись, не сразу остывал.
— Дети! — язвительно передразнил он инвалида. — Конечно, дети. А ты сразу как из ружья стрельнул: неуважительно! Хорошо оно у тебя, ружье-то, бьет: с полки упало, семь горшков вдребезги. Я вот думаю, побить наших людей Гитлер вздумал. Куда ему, если у нас такое поколение выросло.
— Это так, — покорно согласился с его словами инвалид и, искоса посмотрев на старика, осторожно спросил: — У тебя что, своих-то нет?
— Своих? — Максим Петрович сразу обмяк, невидящими глазами смотрел на запотевшее окно. — Были свои… Семья у сына осталась за немцами. От самого первого дня ни весточки. Дочь есть, здесь живет. Ну да что дочь…
— Видно, на границе сын был?
— Там, — коротко ответил Максим Петрович. — Командир он.
— Не отчаивайся, батя. Много наших осталось в окружении. Понемногу выходят, в партизанах остаются. Вернется и твой.
Максим Петрович взял тазы. Инвалид положил ему руку на плечо, запрыгал с натугой. Костыли гулко стучали, волочась по каменному полу.
— Раньше по эку пору в буфете пиво было, на подносах горой раки вареные. Не лишней и стопочка являлась, — прерывисто говорил инвалид. — Вот, рассказывают, в Польше. Идет человек из церкви, костел у них называется, завернет в пивную, кафе по-ихнему, возьмет с бережью пятьдесят граммов, тянет глоточками, продлевает удовольствие. Так и мы, только не из церкви — после бани. На Руси так уж всегда было: хоть ты и нищий, а стопку после бани прими. Да…
Занятый своими думами, Максим Петрович не слушал инвалида.
2
— Вот так, — сказал Максим Петрович, усаживаясь на стул, поудобнее придвинул его к столу, огляделся. — Что пятку тебе оторвало, это, значит, могло быть и не когда ты бежал. Узнал я. С хорошим человеком переговорил, ранение твое в пятку естественное. Могло в бою быть… Мина али снаряд не разбирают, куда стукнут.
Тот, к кому он обращался, зять его Григорий, стоял перед зеркалом, прихорашивал смоляной жесткий чуб. От слов тестя рука его застыла у лба, скрипнул протезный ботинок, когда он обернулся.
— Ну, отец, спасибо, огорошил, — сказал он. От изумления он даже не успел рассердиться. — Ты прямо-таки путаешься в словах, в голове у тебя не пойми что, старость радости не приносит, конечно… С чего это ты завел такой разговор?
— Больно скоро ты вернулся, — отчужденно и упрямо сказал Максим Петрович.
— А ты хотел, чтобы я там остался? Убитым? — Он кивнул на жену Зинаиду, которая сидела на краю постели, наблюдала за сборами мужа. — Чтобы ей похоронка прилетела? Этого ты хотел?
— Ты голос-то на меня не подымай, — все тем же упрямым тоном продолжал старик. — Похоронка, убитым… Война, гляжу, не так тебя повернула. Легкость жизни у тебя. Вот в ЖЭК подался.
— Тебя не спросил! — зло ответил Григорий. — Что, в ЖЭКе-то не люди работают? По военному времени так это очень даже ответственная работа: беженцы, бомбежки, переселять надо… — Он запнулся, подыскивая более веский довод, и, не найдя ничего подходящего, досадливо махнул рукой: «Э, убеждать полоумного — только нервы портить. Как что втемяшится — ничем не собьешь».
По лицу Зинаиды видно было, что все, что говорит ее Григорий, было ей понятно и казалось справедливым. Косо глянув на нее, Максим Петрович отметил, что она смотрит на своего мужа глазами кролика. Хоть и говорят: любовь — летучее вещество, да вот что-то долго это вещество не покидает ее. Будто не догадывается, что он обманывает ее на каждом шагу, другие женщины у него на уме. Максим Петрович обвел взглядом комнату: неказистая обстановка и тесновато. И только сейчас вдруг понял, почему Григорий выбрал себе такую работу: «В нынешнее время, когда война все перевернула, люди уезжают, приезжают, жэковские работники — как боги, многое от них зависит, и многие зависят».
— Переселять, выселять, — сказал он зятю. — Это и любая женщина может, у нее еще лучше получится. Они вон, бедняги, вместо мужиков у станков на заводах маются, по двенадцати, без выходных.
Григорий, попрыскав одеколоном лицо, растирал его ладошками, пристально всматривался в зеркало. На слова тестя пробурчал невнятно что-то вроде: кто как хочет, тот так и мается. Потом, поцеловав жену, которая так и потянулась к нему при этом, он ушел.
— Татьянка где? — сердито спросил Максим Петрович.
— Из школы еще не пришла. Шьют они что-то там с учительницей, говорит: «Бойцам на фронт». С такой серьезностью сказала, хоть падай.
— А ты не падай, чистую душу не марай. — Он вытащил из кармана бумажный кулек. — Ha-ко вот ей гостинец. Талон на сахар отоварили, конфет взял.
Зинаида приняла кулек, но сказала:
— Себе бы берег, сам-то, поди, гольем чай пьешь. А ей Гриша другой раз приносит.
— Да, да, — сварливо заметил Максим Петрович. — Приносит… Высыплет тебе в подол, ты, дуреха, и рада, даже не спросишь, где он был, откуда вернулся. Расходилась бы ты с ним, какая уж жизнь, — уже теплее добавил он.
Некрасивое лицо Зинаиды покрылось красными пятнами, глаза ненавистно сверкнули.
— Вона как! — обозленно крикнула она, всплеснула руками, ему даже показалось, что сейчас кинется на него. — Ты насоветуешь!
Зинаида, конечно, догадывалась, куда отлучается муж в нерабочее время; порой, когда приходил за полночь, под хмельком, с трудом подавляла гнев; слыша его пьяный храп, ревела в подушку. Но ведь сейчас у многих женщин и такого-то мужа нету. Все еще не успокоившись, она резко сказала:
— Не встревай в нашу жизнь, не разваливай мне семью. Что ты сегодня ему наговорил? Ужас какой-то! Не смей вмешиваться.
«Она уже развалена, твоя семья», — хотел сказать Максим Петрович, но пощадил дочь, смолчал. Тревожно и тоскливо было у него на душе.
3
Алеша Карасев шел в корпус, к Веньке. Было холодно, дул пронизывающий, с дождем ветер. Дорога уж куда как знакома, а тут разглядывал улицу и будто впервые видел ее. На дома жалко смотреть: когда-то красивые, выкрашенные каждый по-своему, сейчас были вымазаны в грязно-серый маскировочный цвет; бумажные полосы на окнах напоминали о бинтах, с которыми всегда связаны страдание, боль. Говорят, серые дома с самолетов не так заметны, словно летчики бьют только по видимой цели, не сверяясь с точками на карте.
Город стали бомбить все чаще, пока больше пытаются взорвать железнодорожный мост через Волгу; там по обоим берегам полно зениток, во время бомбежек их хлопанье слышно даже в фабричном поселке, небо тогда бывает истыкано белыми барашками взрывов. Все уже знали, что фашист сбросил бомбу в деревянный вокзал станции Некоуз. Вокзал был переполнен беженцами, разметало и само здание, и людей. Знал же летчик, что мирные люди — женщины и дети — никакой угрозы немецкому рейху не представляли, и не дрогнуло сердце.
У гастронома на улице Стачек стояла длиннущая очередь за хлебом, хвост очереди оканчивался у «поповского» дома, что был от магазина метрах в двухстах. Как всегда, у самых дверей была толкучка, размахивали руками, кричали: без очереди старались пройти инвалиды и вместе с ними нахальные.
А все-таки чертовски холодно, даже поднятый воротник шинели не спасает от ветра, видно, наступала настоящая зима. Чтобы хоть немного согреться, до корпусного подъезда Алеша бежал.
В трехэтажном корпусе с длинными от торца до торца коридорами и бесчисленными каморками-комнатками по обе стороны было, кажется, еще холоднее, пахло сыростью. Поднимаясь на этаж, где жил Венька, Алеша столкнулся на лестничной площадке с худеньким, болезненного вида мальчонкой лет шести. Засунув палец в рот, он пресерьезно смотрел, как Алеша подходит к нему, а когда поравнялись, мальчонка вдруг сказал: