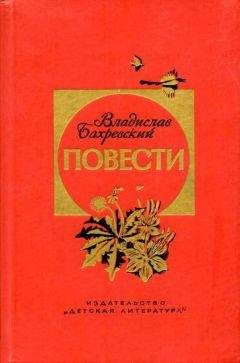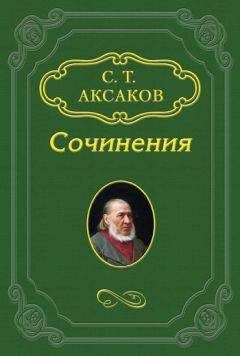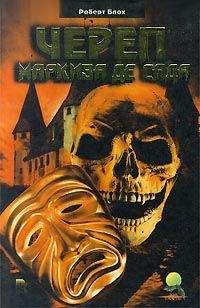— Для какого же сыночка? — удивилась мама. — А если девочка будет?
— Настя тоже ему говорит, а он ей в ответ: а для дочки и того пуще стараться нужно.
— Вот ведь какой богатырь! Спасибо вам! — лицо у Николая Акиндиновича так и просияло. — Ну, пока Коля спит, давайте-ка займемся сеном. И сгрести, и свезти нужно.
Федя работал граблями, а сам все трогал себя под мышками и на спине: не выступал у него пот, да и только!
Когда взрослые сели передохнуть и закусить, Федя сбегал к черемухе.
Коля спал, свернувшись калачиком, губы у него от сна припухли, он тихонько дул в них, и белая ромашка возле его лица качала веселой головкой, словно приплясывала.
На носу у Коли были веснушки, а усов у него еще не было.
Федя посмотрел на огромный Васильевский луг, скошенный Колей, и опять на Колю, на богатыря. И снова не поверил глазам своим: нет, не богатырь раскинулся на широком поле в богатырском сне, и даже не дяденька, а всего лишь большой мальчик.
Федя посмотрел на свои пальцы, сжал одну руку, другую.
«Сколько дней-то осталось Коле дома быть? Хоть бы Настя уж поторопилась родить ребеночка. Человек ведь на войну идет. Родину защищать».
1
За цыплячьим домом Цуры, за его пятью сотками огорода зиял огромный пустырь. В былые времена здесь стояла усадьба, ухоженная на зависть всему Старожилову. Двухэтажный дом утопал по пояс в саду. Сад был первым по губернии, давал доход, но не повезло этому клочку земли. В доме жил кулак, приспешник барона фон Дервиза, хозяина старожиловских конюшен, где пестовали племенных рысаков.
Барон сгорел в пламени революции, кулак был побежден коллективизацией. Дом он сам сжег, по злобе, чтоб «комсе» не достался, собирались под клуб взять. И сад вырубил.
На пустыре привязывали телят, бродили куры. Бывают хитрые такие куры, которые кормятся в одиночку — сытнее, но опасней. Им-то, хитрым, и сворачивают головы живущие на воле мальчишки и отбившиеся от жизни пьянчужки.
Недобранные войной мужички или уже отвоевавшиеся, и те, кто спешил вызреть для нее, — не дети, не взрослые, но присвоившие себе звание королей, — любили посидеть за Цуриным огородом под кустами бузины, поговорить всерьез, без баб.
Старожилово в те дни принимало земляка Живого. Он как раз был из королей — ни то ни се, до войны ему два года гулять, а война на издыхе. По славе, однако, Живой занимал второе место в Старожилове. Слыл он за бандита, хотя был шпана, но такой ловкач, что куда там! Из уважения одного ходил в бандитах. Настоящим бандитом был Неживой. Тоже земляк. В Старожилове его теперь очень ждали: в угодьях ликеро-водочного завода, старожиловского соседа, поспела вишня. Ну, об этом еще будет.
Живой, покуда не явился Неживой, дарил вниманием почитателей. За Цуриным огородом — где же еще: в нехорошем, по словам бабки Веры, месте — окруженный робеющими сверстниками и восторженной мелюзгой, Живой рассказывал о «черной кошке». Федя сидел возле Цуры и как бы немножко за спиной у него. На Живого не смотрел: вдруг тому покажется, что его лицо запоминают — махнет «пиской» по глазам… У Живого на указательном и среднем пальцах левой руки — два колечка. Пальцы сомкнуты — верный знак, что между пальцами половинка лезвия: мешки резать, карманы, а кто глядит, того по глазам. Известное дело!
— Стерва старая у эвакуированных за полбуханки либо перстень, либо кольцо брала. И давали! — рассказывал Живой.
— А куда денисся? — поддакнул с чувством Цура. — Детишки, как птенцы. Им только успевай в клювики кидать, а не кинешь — сразу и лапки кверху.
— «Черная кошка» приметила ту бабушку. Пришли, помяукали, да так жалобно — открыла.
— А вместо кошечки — коты! — захохотал Цура. — Так ее, бабулю, до нитки обобрали?
— До нитки.
— Так ее! — веселился Цура.
— «Черная кошка» — это еще что! — Живой цыкнул через зубы тонкой струйкой слюны. — Вот, говорят, в стольном орудуют. Майор один из госпиталя возвращался. Пересадка у него была. Ну, и подкатывает к нему на вокзале краля в каракулевой шубке: «Если, — говорит, — вам переночевать нужно, у меня для вас будет хорошее место». Повела да все тра-та-та, тра-та-та.
— Это они умеют! — махнул рукой бывалый Цура.
— Он и не приметил дорогу. С улицы — в переулок, да через двор. Запутала. Приходят. Квартира — люкс. Ковры на стене и на полу, кресла, зеркала от полу до потолка… Достает майор из вещмешка две банки тушенки, а она эти банки в помойное ведро — шварк! — и ставит батон белого хлеба, целую ляжку свинины, копченую селедочку и четверть шампанского, довоенного. Выпили, закусили. Она и говорит: «Айн момент! Мне к подруге надо на минутку, а вы, если спать захотите, располагайтесь за занавеской». И ушла. Ему, конечно, подозрительно стало: тушенку баба выбросила! Еды пропасть, богатство. А постель свою потрогал — доски, простынкой прикрыты. На простынке пятна свежие.
— Кровь! — догадался Цура.
Живой опять цыкнул.
— Он, значит, это… в ванную. А ванна полна жиру.
— Человеческого! — Цура аж на коленки встал. — Майор-то, небось, в госпитале отъелся, в теле был.
— Он туда-сюда, — не откликаясь, продолжал Живой, — двери заперты. Глянул в окно — шестой этаж. Достал пистолет — и за дверь. Откроют — сразу не увидят. И точно! Входят два мужика. Здоровых! Он одному «дуру» в затылок: «Руки вверх!», а сам выскочил за дверь и бежать. Все вещички оставил, даже шинель. Прибежал в комендатуру, кинулись искать…
— Рази найдешь! — воскликнул Цура. — Москва — вон какая. Ходишь, ходишь. Я был один раз. Отъехал от вокзала, а меня и приперло! Глаза вылупил, бегаю: во дворах ни кустика, людей полно. Еле до вокзала успел.
— Ври! Успел он! — тоненько залился Живой.
— Ей-богу успел! Только в город уж ни ногой. Покрутился вокруг вокзала и на поезд. Пропади, думаю, все пропадом. Осрамишься на весь белый свет.
Смеялся Живой весело, не страшно. Федя тут и поглядел на него. Высокий парень, стрижен под ежика, в поясе узок и гибок — змея, лицо белое, под кожей синие жилки, глаза серые, блестящие — совсем не бандитское, печальное лицо.
Старожиловские ребята рассказывали Феде: отец у Живого на Черном море вместе с кораблем утонул. Мать «похоронку» получила, положила руку на сердце и умерла. Осталось трое ребят: Живой, брат его и сестра-клоп. Отвезли их всех в детдом. Живой полгода пожил — убежал. А брату и сестре приказал не срываться, чтоб не растерялись. Он их навещает, деньги им возит, еду, обидчиков до смерти бьет… Заведующий в детдоме хапуга был, воровал жратву. Живой приехал, загнал его в кабинете под стол, а под столом взял за нос и, держа опасную бритву наготове, заставил дать клятву: «Сука буду, еще раз сворую у пацанов и пацанок — нос долой». Говорили, год не воровал, а потом перевелся в другую область.
— Скажи-ка, Живой, — почесываясь, начал умную беседу Цура, — ты все время в Москве шарахаешься. Вот и скажи: Жукова хоть раз видел?
Глаза у Живого стали круглыми, злыми — сова и сова.
— Да разве нам его покажут, шпане? Да если бы я его увидал, да я бы ни в жисть!.. — Живой махнул рукой, и из рукава выскочило и воткнулось в землю тоненькое, сверкающее «перышко». — Да я бы лучшим человеком стал. Братом и сестрой клянусь — лучшим, если бы дозволили одно только слово товарищу Жукову сказать.
— А чего ж ты ему сказал бы? — удивился Цура.
— Тыщу лет живи, товарищ Жуков! Вот бы чего сказал.
— А кто сегодня сводку слушал? — спросил Цура. — Чего взяли?
— Каждый день берут и берут! — Живой опустил голову. — Карту я глядел, вся эта Германия — с ноготь, хорошо хоть городов у них много… Я, как призовут, к маршалу Жукову попрошусь.
— А я — к Рокоссовскому!
— А я к генералу армии Черняховскому! — восторженно закричал Федя.
— Тебе не успеть, — серьезно сказал Живой. — Я и то не успею. Немцы отступают. Германия — не Россия. По России три года шли, а на Германию — полгода довольно.
— Богу надо молиться, что отступают, — Цура насупился. — Воевать им всем захотелось! Я воевал один день, а голове моей теперь трещать всю жизнь.
Живой подобрал финку, встал, потянулся.
— Ребятишки, а не сыграть ли нам в лапту?
Всем сразу захотелось поиграть в лапту, но не было мяча.
— У меня есть! — вскочил, раскосив глазенки, Федя. — Каучуковый!
— Неси! — разрешил Живой.
Федя кинулся за мячом.
…Живой и Цура были «мати». Цура не боялся Живого. Он даже стал спорить, когда они канались на бите: верх — бегает, низ — вáдит. Бита — круглая толстая палка в метр с четвертью, Цура и Живой, перехватываясь, измерили ее кулаками. «Верх» остался за Живым, но Цура сказал: «Нет!» Кулак Живого не прикрыл самую малость биты.
— Удержу! — Цура обхватил мизинцем свободное место.