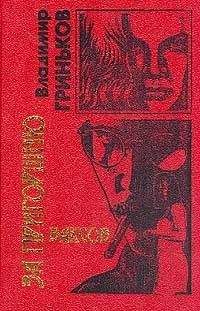Добрались до центра. Было уже совсем темно. Даже с первого взгляда Петро заметил, как неузнаваемо изменился перекресток. На здании универмага висело огромнейшее полотнище с паукообразным черным знаком. Возле дома, в окнах которого горел свет, выстукивая железными подковами, ходил с автоматом на груди немецкий часовой. Раньше здесь был горком партии.
Спотыкач повел Петра дальше, к зданию бывшей тюрьмы.
— Заходи! — И охранник толкнул Петра дулом в спину.
Поднялись по ступенькам на второй этаж. Долго петляли полуосвещенными коридорами, пока не вошли в просторный кабинет.
Два дивана, шкаф, стол. На стене портрет какого-то человека в казацкой папахе, с длинными усами, а под ним фашистское знамя. Сидящий в кресле человек низко склонился над бумагами.
— Пан начальник, — проговорил из-за спины Петра Спотыкач. — Вот этот злодюга на ночь глядя пробирался с торбой в город. Я сразу понял, что за птица. Хотел от меня удрать, так я догнал — и к вам…
Тот, кого назвали паном, не спеша поднял голову. И Петро сразу же узнал Трофима Трикоза, с которым встречался в этом же кабинете у капитана Гриценко. Теперь у Трофима была горделивая поза и пренебрежительный взгляд.
— Откуда тебя, Ивченко, нечистая сила принесла?
— Откуда же, как не из села.
— В родных местах, значит, побывал. К земле небось приглянулся? И какой же ты дурила, Спотыкач! Лучшего моего знакомого не рассмотрел. Иди прочь с очей моих ясных, чучело! — крикнул Трикоз на полицая.
Тот мигом вылетел за дверь.
— А мы тут с ног сбились, тебя разыскивая. Дело хорошее для тебя было. Жаль, опоздал! Не печалься, ты еще сможешь побывать на «красном банкете».
Петро стоял молча. Его охватило какое-то безразличие ко всему. Он слушал Трикоза, смотрел на его обрюзгшее лицо и не понимал, чего от него хотят. В ушах еще отдавался страшный стон из-под земли.
Скрипя хромовыми сапогами, Трикоз вышел на середину комнаты. Он был весь затянут в блестящую кожу и напоминал черного ворона.
— Да ты, я вижу, почему-то не рад встрече, — подошел он к Ивченко. — А помнишь, как нас в эту конуру вшивый энкаведист вызывал? Еще в тот вечер я твердил тебе, что и на нашей улице ударят в бубны. И, как видишь, судьба улыбнулась нам. Теперь не Гриценко, а я решаю в этом кабинете — жить или не жить сообщникам большевиков, — хвастался Трикоз. — Пусть же еще звонче загремят бубны! Слышишь их звуки?
Действительно, где-то за стеной надрывалась гармонь, и утомленно бухали бубны.
— У меня голова кружится, — сказал в ответ Петро.
— Да ты, наверно, голодный? Сейчас я тебя сведу в нашу харчевню.
Трикоз схватил Ивченко за рукав и потянул в коридор.
Спускались в темноте по каким-то крутым ступенькам. Зашли в просторную, с низким потолком комнату, до отказа набитую разношерстным людом. Одни сидели на скамейках за длинным столом и горланили «Попереду Сагайдачный», другие притопывали возле гармошки, размахивая руками. В подвале было так накурено, что на стенах еле светили керосиновые лампы. Воняло подгорелым самогоном и квашеной капустой.
Как только Трикоз вошел в этот балаган, гармонь и бубен утихли. Пьяная орава встретила его угрюмо, без особенного энтузиазма. Он что-то прокричал им и уселся в красном углу. Петра усадили между небритыми мужчинами с синими распухшими лицами.
Парень исподлобья окинул всех взглядом. Сколько их? Откуда они взялись? Внимательнее присмотревшись, он стал узнавать среди них то сторожа с разодранной ноздрей из третьей Черногорской школы, то мельника городской паровой мельницы, то учителя Савченко… Вдруг он увидел и Охримчука, примостившегося на самом краю скамейки, жалкого, раскрасневшегося. «Эх, сволота, посчитать бы тебе сейчас ребра, — даже заскрипел зубами Петро. — Вот где себе гнездо нашел».
Кто-то прогорланил тост. Загремели кружки, забулькала в глотках сивуха. Потом раздалось нудное чавканье. Петро и сам опорожнил кружку самогона. По телу сразу поплыла приятная теплота. Рядом кто-то из компании взревел:
— Вот это нашего куреня парубок: хлещет сивуху, как конь!
Лили еще, и он пил со зла, под дикий рев ватаги. Пил, пока не расплылось все перед глазами, и он нырнул в зияющую пустоту.
Сколько пролежал под столом, он не помнил. Проснулся от удара чем-то тупым в нос. Потом кто-то наступил ему на пальцы руки. От боли Петро открыл глаза. В комнате слышался невообразимый шум, метались какие-то красноватые тени, что-то громыхало и охало.
— Больше захотел, гад?
— Поровну между всеми делить, поровну!
Снова, будто колом по мешку с песком, лупили кого-то.
Внезапно все стихло. На середине комнаты появились хромовые сапоги со скрипом.
— А ну, за стол, вражьи дети!
Петро узнал голос Трикоза.
— Не для того меня новая власть районным начальником полиции сделала, чтобы беспорядки происходили. Из-за чего завелись, окаянные, из-за барахла? Да я из вас… Да я вам всем глотки позатыкаю тряпками, только фюреру верно служите. Кто на ногах устоит, пойдем сейчас со мной к колченогому Гриндюку.
Хищно засопела ватага. У Петра хмель как ветром сдуло. Неужели Трикоз в самом деле пойдет творить расправу? Неужели и Анюту смерть ожидает?
— За нашего шефа! — заверещал одинокий голос.
Петро вылез из-под стола. Умышленно закрыв рот ладонью, шатаясь, кинулся во двор. Вдогонку ему гоготали:
— Феклу пошел целовать? Фе-е-еклу!…
Окольными путями пробирался парень на Беевку. Бежал долго, пока не перехватило дыхание. Наконец — знакомый перелаз. Хотел перешагнуть — упал. Все равно надо спешить. Приподнялся, дополз до окна. А как постучать? Нащупал рукой какую-то палку и начал стучать в стену.
Вышел, прихрамывая, Гриндюк, склонился над ним.
— Дядьку, бегите! — прохрипел Петро. — Полицаи сегодня убить вас собираются… Берегите Анюту, пусть не забывает!
Немного погодя от хаты Гриндюка мелькнули огородами две тени. На следующий день между соседями поползли слухи, что сапожник с дочкой будто бы пошли менять вещи по селам. Другие говорили, что забрали их среди ночи гестаповцы и в глинище закопали, а иные лишь многозначительно кивали головами. Только Петро, хотя и знал обо всем, молчал, как сырая земля: его свалил сыпной тиф.
Почти целый час пришлось ждать шефу полиции около дверей кабинета Мюллера. Наконец вызвали. Не успел он переступить порог, как Мюллер рявкнул:
— Не вижу старой закваски, пан Трикоз. Неужели у вас такая короткая память, что забыли о кровавых ночах Богдановского куреня в Киеве, на Подоле?
Мюллер, выхоленный, напомаженный, вышел из-за стола. Он был без кителя, в одной нижней сорочке. Пестрые подтяжки с темными бляхами глубоко врезались в гладкое тело, словно в тесто. В правой руке он крутил нагайку. Жалобно посвистывая, она извивалась причудливыми петлями. В минуты спокойствия Мюллер всегда любил забавляться нагайкой. Сплел ее адъютант Бухрс из кожи варшавской коммунистки Ядвиги Обжецкой. Правда, одноглазого Бухрса поляки потом повесили за ноги на одной из окраин Варшавы, но нагайка сохранилась как память об операции «33», за которую Мюллер получил звание оберста и Железный Крест из рук самого Франка.
— Операцией по «профилактике» населения я не доволен, — остановился он напротив оторопевшего Трикоза. — Твоя орава полицаев не стоит одного моего солдата. Дикари!
На лице новоиспеченного шефа полиции сразу появились багровые пятна. Он неподвижно замер посреди комнаты, только мелко дрожал кадык над воротником вышитой сорочки.
— Служим вам верой и правдой.
— Для нас, немцев, самая убедительная характеристика — то, что вы делаете для укрепления нового порядка. Фюрер приказывал нам: «Мертвые не бывают свидетелями». Поэтому во время этаких дел у вас не должно быть свидетелей…
— Пан оберст, пан Мюллер, — заикаясь пролепетал Трикоз, — в городе вы не найдете ни единого христопродавца…
— Не вы же их расстреляли, — оборвал его Мюллер и впился в полицая своими бесцветными глазами. На его выхоленном лице появилась многозначительная холодная улыбка. — Если бы не мои рыцари, они бы у вас поразбегались, как крысы.
— Сам бог тому свидетель… у меня ствол парабеллума покраснел. Я старался, я даже руку себе обжег… Вот посмотрите…
Мюллер вернулся к столу и погрузился в мягкое кресло. Взглянув исподлобья на крайне взволнованного холуя, захохотал, громко, почти безумно, и откинул голову на спинку кресла.
Трикоз стоял перед ним и не знал, смеяться ему или плакать. Только глазами моргал и ждал.
— А все-таки слабый у тебя очкур[10], Трохим… — произнес наконец фашист. — Мне доложили, как ты глинище сравнивал. По-нашему, скажу… Знай, фюрер щедро награждает своих верных слуг.
Трофим топтался на месте, вытирая шапкой вспотевшее лицо. С перепугу он никак не мог прийти в себя. Ну и хитер же этот Мюллер: начинает за здравие, а кончает за упокой. Что за дурная привычка?