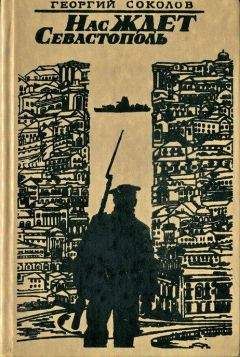Один дзот уничтожен, но остался второй. Азарт боя разгорячил моряка. Инстинкт самосохранения, действовавший в начале схватки, исчез, одна мысль завладела всем его существом — крушить, убивать, уничтожать. Он бросился по траншее ко второму дзоту. Опять на пути встретился тот офицер, который хватал его за ногу. В руке у него был пистолет, сам он ничего не видел, его окровавленное лицо распухло, глаза закрыты. Офицер что-то кричал. Семененко выстрелил в него из автомата.
Траншея была сделана зигзагом. Боевой опыт подсказал, как надо действовать в такого типа окопах. Он бросал за поворот гранату, потом давал короткую очередь из автомата и подбегал к следующему повороту. Еще один поворот — и можно бросать гранату в дзот. Но тут на него налетел высокий немец. Увесистый удар кулака в висок оглушил немца, и он прислонился к стенке траншеи. Стрелять было неудобно, Семененко выхватил финку и вонзил ее в живот немца. Тот скорчился. Семененко перепрыгнул через него.
Во втором дзоте не было дверей. Семененко подбежал к входу, отстегнул последнюю противотанковую гранату и швырнул ее внутрь дзота. Разгоряченный боем, он не сообразил сразу упасть, взрывная волна сбила и оглушила его.
Логунов подбежал к нему и взял под руки. Семененко резко вскочил, взмахнул финкой.
— Стой! Это я! — отшатнулся Логунов, пугаясь дикого выражения глаз Семененко.
Несколько мгновений Семененко смотрел на него, не понимая, кто перед ним. Когда понял, лицо его исказилось, на нем появилась не то улыбка, не то гримаса.
— Тю на тебя! Откуда взялся? Трохи не прирезал.
Он шагнул ему навстречу, и вдруг перед глазами поплыли круги, к горлу подступила тошнота. Прислонившись к стенке траншеи, прохрипел:
— Дай воды…
Логунов хотел пойти в дзот, рассчитывая найти там флягу. Но тут раздались крики, и он увидел, как на курган бежали вражеские солдаты со второй линии траншей. Тут уж не до фляги.
— Фрицы, Павло! — крикнул он и стал стрелять из автомата.
Превозмогая разлившуюся по всему телу слабость, Семененко высунулся из траншеи. Он увидел не только гитлеровцев, но и бежавших к кургану морских пехотинцев. Взобравшись на бруствер, Семененко встал во весь рост, призывно замахал рукой, крича:
— Швыдче, братва! Бо поздно будет! Не давай гадам закрепляться!
Морские пехотинцы и гитлеровские солдаты вбежали на курган одновременно. Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. Длилась она не долго. Гитлеровцы не выдержали. Моряки сбили их с кургана и преследовали по пятам, смяли минометную батарею. Полковник Громов, видя успешные действия штурмовых групп, бросил в бой всю бригаду. В сумерках морские пехотинцы ворвались в станицу. Гитлеровцы поспешно отходили.
Ночью Громов вызвал к себе Семененко и Логунова. Явился один Семененко. Он не успел переодеться и почиститься, был в истерзанной гимнастерке, заляпанной грязью и кровью, брюки в коленях порваны, и оттуда виднеются кальсоны, сапоги грязные. Громов обнял Семененко и трижды поцеловал.
— Богатырь! Богатырь! — несколько раз повторил полковник.
Семененко смущенно улыбался, переступая с ноги на ногу.
— Повезло…
— Ранен?
— Ни одной царапины. Оглушило немного.
— Действительно повезло, — в задумчивости поглаживая бороду, произнес Громов. — Такое раз в жизни бывает. А где твой напарник?
— Его царапнуло пулей. Пошел в санроту на перевязку.
Громов положил ему на плечо руку и несколько торжественно заявил:
— Объявляю вам сердечную благодарность от имени командования и всего личного состава. Своим подвигом вы спасли жизнь многим матросам и офицерам. Представляю к наградам и даю каждому отпуск на пятнадцать суток.
Семененко вытянулся, козырнул:
— Служу Советскому Союзу! — И, чуть замявшись, попросил: — А насчет отпуска прошу повременить. Логунов пусть едет, а я подожду.
— Почему? — удивился полковник. — Ваша область освобождена.
— Нема зараз никого родных, — опустил глаза Семененко и тяжело вздохнул: — Хату спалили, маты убили, а батько партизанит.
Полковник кашлянул, не найдя сразу нужных слов для утешения.
— Вот что, Павло, — после некоторого молчания пробасил он в бороду, — садись-ка за стол, и разопьем бутылочку. Ночевать останешься у меня. Мне спать не придется, утром двинем дальше. А ты спи, разбудим, если понадобишься.
Он открыл дверь в соседнюю комнату и окликнул ординарца. Вместе с ординарцем вошел капитан Игнатюк.
— Вам чего? — насупился Громов.
— Вы приказали доложить о потерях за прошедшие сутки.
— Да, да, — спохватился Громов. — Докладывай.
— Убито рядовых и сержантов двадцать девять, офицеров два, ранено девяносто рядовых и сержантов, офицеров три.
Полковник склонил голову и несколько минут сидел молча, комкая бороду. Игнатюк стоял, не шевелясь, и так смотрел на голову полковника, словно пересчитывал на ней седые волосы. Семененко сидел на краешке стула, испытывая неловкость.
Не поднимая головы, полковник махнул рукой:
— Можете идти.
Но когда Игнатюк повернулся, полковник остановил его:
— Вот что, начальник четвертой части. — Он в упор посмотрел на него: — Будем считать, что проверка Логунова закончена, Он получил ранение и сейчас находится в санбате, завтра оформите наградные листы на Семененко и Логунова. Вы меня поняли?
— Так точно.
Полковник возвысил голос:
— И если еще… Впрочем, идите.
Он проводил его глазами и, когда дверь за ним закрылась, повернулся к Семененко.
— Все же потерн большие, — огорченно покачал он головой.
Вынув пробку из бутылки, которую поставил на стол ординарец, полковник наполнил стаканы вином. Подняв свой стакан, он сказал:
— За упокой твоей мамы, Павло, и за здоровье живых матерей, чьи сыновья сражаются на фронте с фашистской нечистью.
Выпив стакан до дна, полковник с задумчивым видом стал набивать табаком трубку.
— А мою мать белогвардейцы шомполами запороли. Было это в девятнадцатом году в станице Пашковской, — проговорил он хмурясь, потревоженный воспоминаниями. — Я в то время был командиром взвода конной разведки в Стальной дивизии, которой командовал Жлоба. Дал я тогда клятву рубать беляков и прочую нечисть, которая мешает трудовым людям жить. И до сих пор ту клятву помню и до самой смерти не отступлю от нее.
Некоторое время Громов молчал, усиленно дымя трубкой. Семененко хотел сказать, что он тоже дал клятву, но вместо этого произнес:
— Севастополь освободим, тогда буду просить отпуск.
— Отпущу, — кивнул Громов.
В дверь постучали. Вошел начальник штаба и доложил:
— Прибыл подполковник из штаба фронта.
— Чего ему надо? — недовольно спросил Громов.
— Точно не знаю. Спрашивал, какие у нас артиллерийские средства, наличие людей в батальонах, намерены ли завтра продолжать наступление. Пригласить его сюда?
— Сюда не надо. Пусть побудет у тебя. Через несколько минут приду.
После его ухода он разлил по стаканам оставшееся в бутылке вино.
— Выпьем-ка, Павло, за Севастополь.
1
Трудно найти свою бригаду или дивизию во время наступления, когда ты возвращаешься из отпуска, из командировки или из госпиталя. Появишься в указанный комендантом населенный пункт, а там и след простыл от твоей части. Начинаешь гадать по карте, выспрашивать солдат, матросов, офицеров встречающихся на дорогах. Прибываешь туда, куда показали карта и встречные, но вдруг выясняется, что тут уже другая часть, а твоя где-то справа или слева. Спешишь туда, а там говорят, что твою вывели во второй эшелон или на формирование. Поворачивай обратно.
В таком положении оказался Николай Глушецкий. Третьи сутки он разыскивал свою бригаду. Но каждый раз, приезжая в указанный населенный пункт, находил только следы. Не всегда удавалось примоститься на попутную машину. Чаще приходилось передвигаться пешим порядком.
Фронтовая дорога в конце концов привела Глушецкого в Анапу.
Маленький курортный городок походил на древние развалины. Идя по улице, Глушецкий видел взорванные и сожженные здания. В городе стоял запах гари. С телеграфных столбов свисали рваные провода, под ногами хрустели осколки стекол. На некоторых домах висели объявления со знаками свастики.
Несмотря на разрушения, город выглядел празднично. Над многими домами развевались красные флаги. Значит, верили люди в освобождение и хранили символ советской власти.
Около двухэтажного, чудом уцелевшего дома стояла большая группа гражданских людей. Подойдя ближе, Глушецкий увидел, что они окружили двух пожилых мужчин в полувоенной форме и оживленно о чем-то говорили с ними.
Приглядевшись, Глушецкий в изумлении остановился. Один из них походил на Тимофея Сергеевича. Да это он и есть! Зачем он приехал сюда из Сочи? Почему-то сбрил усы. Протиснувшись ближе, он крикнул: