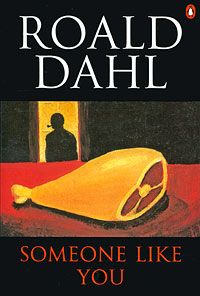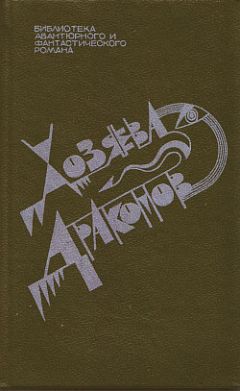Упаковав документы, преодолевая себя, скорее пошёл прочь из такого родного подвала, в котором можно было просидеть хоть всю войну, до самого награждения.
Прибежала встревоженная Зарема. Бледная, в сбившемся платке, бросилась мне на шею:
— Не ходи туда. Вас всех убьют. Даже близко не подойдёте. Наши ополченцы ночью гаубицу привезли для стрельбы прямой наводкой. Пожалуйста.
И снова я, сам того не желая, был с ней резок:
— Рано ты нас хоронишь. Мы ещё повоюем.
Снимаю и протягиваю Зареме смертный медальон с личным номером и личными данными, нацарапанными на оборотной стороне — Ф.И.О., год рождения, группа крови.
— Вот, возьми на память. Бог даст, после войны встретимся.
Что ещё я мог сделать? При самом плохом раскладе хоть нашим военным потом передаст. Ей здесь легче уцелеть. Всё-таки она девушка и никто не посмеет в неё стрелять.
Зарема сразу сникает, отворачивается. Ну вот, довёл до слёз бедную…
— Я поесть принесла. Как ты любишь.
Господи, как же я хотел остаться тогда с Заремой! Она удалилась совершенно растерянная, то и дело оглядываясь и что-то порываясь сказать. Мне становится неимоверно плохо. Я шатаюсь, расстёгиваю пуговицы, глубоко вдыхаю и выдыхаю горький карфагенский воздух, вытираю холодную испарину со лба.
Этот день, последний день моей войны в Карфагене, стал самым отвратительным днём в моей жизни. Если бы я только знал, что случится дальше. Я бы оставил батальон, а потом без колебаний пошёл бы под суд по обвинению в трусости и малодушии, в дезертирстве с хищением оружия, только бы уберечь Зарему. После нашей встречи девушку вздёрнули в её же собственном фруктовом саду. Безглазая, иссохшая, с обглоданными ногами Зарема висела там вплоть до 2-го февраля. Её сняли военнослужащие Внутренних войск, прибывшие зачищать сломленный после ожесточённых январских боёв Карфаген.
Моя любимая, моя самая-самая любимая Зарема! Она ведь даже не успела принарядиться тогда, когда спешила предупредить нас о подстерегающей опасности…
Всё время, пока идут сборы, Вика ходит за мной как привязанная. Она хорошо поела из зареминого узелка и немного повеселела. Бережно носит плоскую картонную куколку, самодельную, которую мы вчера вместе соорудили и разрисовали синей шариковой ручкой. Наконец я спохватываюсь и присаживаюсь перед ней на корточки.
— Что тебе привезти? Хочешь настоящую игрушку?
— Ничего не надо. Ты сам возвращайся, дядя Ильдар. Вы все возвращайтесь! Я спать не лягу, буду ждать.
— Спасибо, Вика.
Девочка некоторое время держит меня за рукав, не отпускает, на что-то решается. Потом шёпотом сообщает «страшную-престрашную» тайну-мечту:
— Скоро мама приедет и мне вкусный сок привезёт. Я тебе тоже дам попробовать.
Я невольно улыбаюсь, поправляю ватку в её левом ушке, и пристально смотрю в её чёрные-чёрные глаза, так не похожие на уродливый обугленный город, который сейчас заносит снегом. Лишь бы Вику спасли, а там, глядишь, и семья хорошая подберётся. Прижимаю девочку к себе. Не заплакать, главное не заплакать от всего этого, а то она расстроится. Пусть знает, что мы сильные, внутренне самые сильные.
— Ты ведь писарь, Ильдар. Оставь, что ли, метку какую-нибудь.
Это Паша-пулемётчик. Держит головёшки из нашей железной печки.
Киваю, хорошая мысль. На обшарпанной силикатной стене появляется надпись:
«Здесь сражался 1-й батальон.
Помните нас.
Счастья всем!
(Карфаген, 31 дек. — 8 янв.)».
Вот и всё. Осталось только честно поделить патроны. Получилось негусто.
Радист Лёня, сидя за сильно побитой бронёй двух чудом уцелевших боевых «колесниц», вдумчиво разливает по кружкам водку. Ребята молчат. Кто знает, может, в последний раз выпиваем в таком составе.
Зарема сказала, что мы все умрём ещё на подступах к библиотеке, но что из этого? Я слишком сильно устал, чтобы думать обо всём сразу. И, кажется, даже уже не мечтаю о Пацифиде. Пора завязывать. Я хочу скорее закончить эту проклятую войну и никогда её больше не видеть. Для этого сегодня нужно очень постараться.
Спустя час, сложив у себя огромный погребальный костёр, политый солярой и моторным маслом, к нам подошли остатки соседнего подразделения. Удерживать свои перепаханные позиции они уже не могли. Павших сожгли, чтобы уберечь тела от глумления.
— За девчонкой смотрите, пацаны. И Зарему не трогайте.
— Всё сделаем. Не беспокойся.
— Держитесь. Сюда «ленточка» уже вышла. Часа через 3–4 должны пробиться. Встречайте, поддерживайте огнём.
— Всё сделаем. Удачи вам!
Когда вновь прибывшие заняли оборону на рубежах нашего сгинувшего батальона, мы, все 18 человек, погрузились на две БМП и поехали воевать в район детской библиотеки.
А девочка… Девочка стояла на исковерканной мёрзлой обочине, мужественно глотала слёзы и махала нам на прощание рукой. Маленькая, потерянная, заметаемая снегом, в бушлате убитого лейтенанта, и махала, махала нам озябшей рукой. Варежки ей я так и не нашёл.
* * *
Я пережил очень многих. Значит, есть в этом какой-то смысл. Недавно встретился с боевыми друзьями. Мы сидели за одним столом, вспоминали прошлое и общих знакомых. О покинувших нас не говорили, но я и без этого помнил их всех. Радиста Лёню, Пашу-пулемётчика, наводчика из второй бээмпэшки, которому после боя, уже мёртвому, старательно растоптали, расплющили пальцы рук. Он молодец, оперируя 30-мм автоматической пушкой и штатным пулемётом, успел наделать дел. По прошествии лет я ничего и никого не забыл. Продолжаю искать Вику.
Надеюсь, что увижу Пацифиду. Хотя, куда это я так разогнался? Может, уже давно нет меня? И жизнь после войны только привиделась в короткий отрезок времени, пока мы выдвигались на тряской, испещрённой пулями и осколками броне БМП к детской библиотеке.
* * *
Из служебного донесения:
«Остаток светового дня штурмовая группа вела огневой бой, из которого не вышла. На данный момент факт гибели личного состава ШГ в количестве 18 человек установлен. Тела опознаны и переданы на этап эвакуации».
Январь 2010 г.
P.S. Гаубица, которую приволокли ночью повстанцы, всё-таки выстрелила. Головная БМП почти развалилась надвое. Потом был военный госпиталь, долгое лечение и вхождение в мирную жизнь.
Когда мне становится совсем невмоготу, когда беспокоят черепно-мозговая травма, покалеченная левая рука и компрессионный перелом позвоночника, я вспоминаю те дни в Карфагене. Знакомство с Викой меня научило стойкости, человечности. Поэтому я терплю.
По поводу того, жив я или нет… Я не знаю этого до сих пор. Официальные бумаги, они ведь тоже бывают неточными. Я сам писарь, я знаю. Вроде всё.