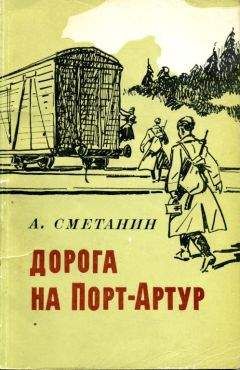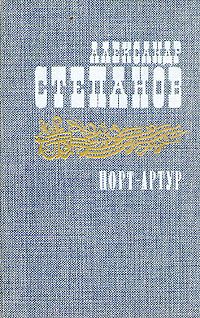Они начали гаснуть. Это значит, что преследователи залегли и боятся стрелять, чтобы не обнаружить себя вспышками автоматных очередей. Ну и лежите, лежите, ни дна бы вам, ни покрышки. Я не дам вам подняться, не дам!
Немцы поняли это. Не те, что лежали, а те, кто послал их с задачей отрезать путь отхода нашей левофланговой группе. Поняли и решили заткнуть глотку моему «максиму». Мины шлепаются вокруг пулеметной площадки, летят сотни пуль, изрыгаемые полудюжиной пулеметов.
Меня очень хорошо видят немецкие пулеметчики. Пламя на срезе ствола «максима» почти не гаснет, о щит барабанят и барабанят комочки горячего свинца. Но пока хотя бы один из них не проскочит в прорезь для прицела, я не перестану стрелять.
А помощник наводчика оказался смелым парнишкой, то и дело вставляет мне новые ленты. А вставив очередную, приседает, прячет голову за бруствер, но не забывает направлять ленту в приемник. Молодец, солдат, молодец!
У немцев, очевидно, нет на прямой наводке противотанковых пушек. Те давно бы слизнули меня вместе с пулеметом. А раз нет, то не дам я вам подняться, господа фрицы. Не дам! Не дам! Не дам!
Сколько лент я расстрелял, не знаю. Перестал стрелять лишь тогда, когда на мое плечо легла чья-то рука. Оказалось — Гусева.
— Все, отбой, Кочерин. Кто остался жив, тот вернулся. Видишь, даже ракет немцы не бросают...
Рядом с командиром взвода стоит незнакомый мне старшина в новеньком полушубке.
На прощанье я даю еще одну короткую очередь и сползаю на дно окопа. Ноги уже не держат. Гусев и старшина присаживаются рядом.
— Скажи вот старшине, — младший лейтенант хлопает того ладонью по колену. — Почему ты оттолкнул его пулеметчика?
— Пойдемте в блиндаж, — с трудом отвечаю командиру взвода, — глоток воды выпью и все расскажу.
— Пошли. — Гусев поднимается, мы за ним.
Не знаю почему, но в блиндаже старшина вдруг становится более смелым.
— Ты, сержант, еще ответишь мне за самоуправство! Мой подчиненный...
— Трус твой подчиненный, старшина. Трус и подлец. Там наши люди гибли!
— Не смей мне тыкать. Я командир пулеметного взвода!
— На Курской дуге у нас командиром пулеметного взвода тоже был старшина. Ох, какой был командир!
— А меня это не интересует. Отвечай, почему ты оттолкнул моего пулеметчика?
— Если еще раз такое повторится, вот при своем командире говорю, я расстреляю твоего пулеметчика (умышленно говорю старшине «ты»). Расстреляю за то, что он трус. Знаешь, что он мне сказал? Нет? Так вот: он не хотел стрелять. Боялся, что его засекут немецкие пулеметчики в подвалах и жахнут сразу из нескольких. Понял, старшина?
— Ты мог доложить о его поступке мне...
— Там, — я указываю рукой на выход из блиндажа, — повторяю, гибли наши люди. А я должен был бегать по траншее и искать тебя, чтобы доложить об этом? А где ты, старшина, кстати, был в это время?
Старшина не считает нужным объясняться со мной. Да он бы и не успел сделать этого. Плащ-палатка, откинутая сильной рукой, взлетает кверху, и в проеме показывается долговязый сержант, командир отделения разведчиков. Его черное, остроносое лицо залито кровью, маскхалат изодран, глаза удивленно, как на привидения, смотрят на нас.
— Привет славянским народам! — Он медленно подходит к нарам и опускается на них. — Привет от человека, вернувшегося с того света.
— Привет, привет, сержант. — Гусев садится рядом с ним на нары, старшина и я продолжаем стоять. Наш разговор еще не кончен и добром, кажется, не кончится.
— Как сходили? — Гусев протягивает сержанту пачку «Беломора», тот берет папиросу, кладет ее себе за ухо, достает из внутреннего кармана телогрейки помятую фляжку, делает из нее глоток, другой, подает младшему лейтенанту.
— Выпей. Да и вы все выпейте за помин души оставшегося там. А сходили, что же, хорошо сходили. Если бы не какой-то ваш пулеметчик, ни один бы из нашей группы не вернулся. Нас ведь почти отрезали.
Младший лейтенант смотрит на меня, грустно качает головой, отпивает из фляжки и передает ее мне:
— Пулеметчику я об этом скажу. — Гусев с хитринкой в глазах смотрит на меня. — Взяли пленного?
— Приволокли. К майору повели его. Здоровенный, гад, оказался. Вон как физию мне разукрасил.
— А тот высокий, с усиками, живой? — Вмешиваюсь в разговор я. Мне очень хочется, чтобы пленного повел к майору именно он.
— Сударев? Нет, сержант. Не живой он больше. Там, за проволокой, остался мой закадычный дружок Володя Сударев...
Сержант достает из-за уха папиросу, закуривает от уголька, потом говорит:
— Большого ума был человек! Скромняга, хотя смелости у него на десятерых. Ведь это он стал прикрывать нас огнем, когда фрицы вдогон кинулись. А когда ваш пулеметчик вступил в дело, он к нам побежал. Да не добежал. Жалко, братцы, ох как жалко таких людей! Сам-то он токарь подольский.
Разведчик отвинчивает крышку фляжки, затем, подумав, завинчивает ее снова и сует фляжку за пазуху.
— Товарищ младший лейтенант, пока темно, разрешите, за Сударевым схожу. — Это решение приходит ко мне неожиданно, в каком-то внезапном порыве.
— Не сучи ногами, юнош! — Сержант сердито смотрит на меня, раскуривая погасшую папиросу. — За Владимиром Ивановичем я сам пойду. Я знаю, где он лежит, ты — нет. Если бы не хотел идти за ним, сам бы увел пленного к майору. Понял?
Разведчик встает, отсоединяет пустой диск, вставляет новый, полный патронов, завязывает тесемки маскхалата.
— Пока, славяне. Пошел за Сударевым. В случае чего фамилия моя — Тимурин. Тимурин Федор Иванович.
— Погоди, сержант, — Гусев встает следом. — Скажи мне, почему вы, левофланговая группа, стали отходить не туда, куда планировалось.
— Да потому, младший лейтенант, что кто-то из наших на мину напоролся. Нас обнаружили раньше, чем мы надеялись, и стали отсекать одну группу за другой. Когда мы пленного взяли, я решил идти прежней знакомой дорогой. Сударев тоже так думал.
Наутро меня вызывают на КП роты, туда, во вторую траншею. В блиндаже сидят старший лейтенант, заместитель командира батальона по политической части и старшина Кузнецов.
Старший лейтенант, кивнув головой, берет с места в карьер.
— Такие дела, Кочерин: начальник разведки полка ходатайствует о награждении тебя орденом, а на имя комбата поступил рапорт о привлечении тебя к ответственности за превышение власти и грубость по отношению к наводчику пулемета. Так доложил ему командир взвода, в котором служит этот наводчик. Как прикажете с вами поступить?
— Наградить орденом!
— Эге, да он юморист, — глаза замполита холодно поблескивают в полумраке блиндажа. Этот блеск не сулит мне ничего хорошего, хотя на губах батальонного начальства на мгновение и появляется улыбка.
— Станешь тут юмористом...
— А ты говори, Сергей, говори все, как было, — поддерживает меня Иван Иванович. — Все, как младшему лейтенанту Гусеву докладывал.
Я рассказываю, как было, и добавляю еще:
— Этого пулеметчика я знаю с неделю, хотя их командира взвода увидел вчера первый раз. Так вот, этот наводчик боится стрелять по немцам даже тогда, когда находится на запасной огневой позиции. Как бы говорит им: я вас не трону и вы меня не троньте. Перемирие, мол, между нами. Товарищ старший лейтенант, да ни в жизнь бы не подошел к его пулемету, если бы был уверен в своем ручном пулеметчике рядовом Тельном. Стреляет он неплохо, но «дегтярь» не так устойчив в стрельбе, как станкач. Тельный мог запросто по своим полоснуть. Ведь ему через головы наших ребят пришлось бы целить.
— А где вы научились так метко стрелять из «максима»? — взгляд старшего лейтенанта, чувствую, теплеет. Он подходит ко мне вплотную.
— На Курской дуге, у старшины Лобанка.
— Может, вам лучше в пулеметчики, а, Кочерин?
— Спасибо. Мне и в стрелках хорошо.
Замполит встает и, прохаживаясь поперек блиндажа, начинает читать длинную нудную нотацию. Она была не по-фронтовому, не по-военному уж очень длинной и очень нудной. Но ни разу старший лейтенант мне не тыкнул, ни жестом, ни намеком не оскорбил.
Ведь умеют же так люди! Я давно понял, что не имею права унижать достоинство рядового и свое, устраивать самосуд, нарушать требования устава и законов, что я должен был поступить так-то и так-то. Да, понял. А старший лейтенант все говорит, говорит, все держит меня по команде «смирно». Но вот наконец он меня отпускает, я с облегчением вздыхаю, делаю «налево кругом», но меня останавливает Иван Иванович.
— Обожди в траншее, Кочерин. Я сейчас.
«Сейчас» затягивается на целых полчаса. Я понимаю Ивана Ивановича: начальство задерживает.
Но вот Кузнецов наконец тоже выходит из блиндажа, и мы направляемся в землянку старшины роты, где квартирует и наш «комиссар».
Дверь в землянку приперта колом: это значит, что хозяина дома нет. Конечно, дело идет к ужину, старшина на своем посту, у кухни, которая располагается в полукилометре отсюда, в тихом лесном овражке.