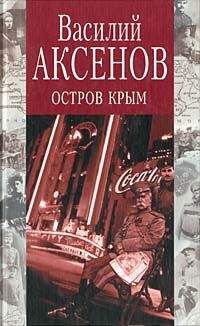Мы были еще в меховых комбинезонах, когда к нам подрулил Навроцкий. Он вылез из кабины, скатился по плоскости, но не упал, а удержался. Лицо его осунулось, веки покраснели и набухли, а глаза блестели.
«Как огонек?» — спросил Грехов.
«Ничего особенного, — Навроцкий улыбнулся. — Так, мелкие уколы».
«Брось форсить!..»
«Я серьезно. Огонь беспорядочный и неточный».
Из полосы тумана с каким-то безобразным рваным ревом выскочил самолет. Он шел поперек полосы, его трясло, оба мотора работали с перебоями. Это был залатанный, с облупившейся обшивкой, весь в масляных подтеках 05-й — машина капитана Дробота.
Добрались, слава Богу, подумал я.
Самолет неуверенно развернулся, пошел на второй круг и вдруг опрокинулся.
Все замерли. Не помню, что я тогда почувствовал, не умею сказать… Оторопь, смятение… Что-то огромное, жаркое накатило, чему и названия не придумать, какая-то безысходная тоска… Догадывался, конечно, что к чему. В конце полета всегда наваливалась усталость, приходила сонливость… Пялишь глаза на приборы и ни черта не видишь: спишь с открытыми глазами. Знаю по себе. И все равно оторопь. Как же так? На пороге дома! С этим не то что смириться, этого понять нельзя было.
Навроцкий стоял неподвижно, держа папиросу на отлете. Она жгла ему пальцы. У Грехова на скулах застыли желваки.
Машина Дробота еще горела, когда мы услышали в тумане слабый зудящий звук: кто-то шел на одном моторе. Самолет вылез из тумана точно в створе посадочной полосы, но не дотянул до нее, упал и взорвался.
Мы бросились к горящему самолету. Впереди летел Навроцкий и наши стрелки, за мной, хрипя и ругаясь, бежал Грехов.
На границе летного поля, рядом с сараем пылала груда искореженного металла. Стрелок из экипажа Навроцкого стоял бледный, с закушенной губой. Он с ужасом смотрел на горящие обломки и вдруг разрыдался.
«Черный день», — сказал Грехов.
Егор Кузоваткин — стрелок из экипажа Навроцкого — бродил по лесу и дивился обилию камней. Откуда их столько нанесло? Камни были в траве, среди мхов, в зарослях можжевельника. Попадались гранитные валуны — то гладкие, отполированные дождем и солнцем, то покрытые синевато-белесым или вовсе бесцветным лишайником.
А лес был, как дома, — ель, береза, ольха. И холодный, горьковатый запах осины был родным. И черника росла, как дома, на мшистых полянках.
Егор вспоминал северную деревню и свой бедный двор. Жили скудно. О землю рожей, как говорил отец. Человек он был болезненный и работник худой. Вдруг синел лицом и заходился в кашле («По моей судьбе бороной прошли»).
Егор долго носил портки на помочах. Зимой он почти не выходил на улицу и до семи лет сидел на печи, пока не справили ему катанки.
Все девятнадцать лет Егор Кузоваткин прожил в одной деревне. Когда молодые стрелки собирались вместе и начинали вспоминать гражданскую жизнь, Егор больше слушал. Рассказывали чаще городские, но и у деревенских парней были свои истории: как в ночное ездили, как однажды в голодное зимнее время на волков нарвались, как объезжали лошадей, как ходили на вечерки и щупали девок. Егор искал в своей памяти какой-нибудь случай, о котором можно было бы рассказать, и не находил. Были все какие-то дела, заботы. Радости тоже были, но они, как и заботы, повторялись, набегали друг на друга, выстраивались в круг… И он жил в этом кругу.
Потом Егор стал краснофлотцем Кузоваткиным, служил в минно-торпедном авиаполку и летал стрелком в экипаже лейтенанта Навроцкого. Командир его был хороший летчик, красивый, веселый и, как сказали бы у них в деревне, маховитый мужик широкая натура. После того боя он подарил Егору свои часы. Егор тогда и пережить ничего не успел, просто сказал: «Нет!» Летчик снял с руки часы: «Бери!» Егор подумал, что командир смеется, и снова сказал: «Нет. Нельзя». Он, по правде сказать, и дотронуться до них боялся. Это были круглые, в золотом корпусе часы с чудными цифрами и надписью не по-русски. «Не могу. Нельзя», — повторил Егор. «Кой черт! — сказал командир. — Они твои. Кто снял «мессера»?
РАССКАЗЫВАЕТ СТОГОВ
На аэродроме стемнело, народ потянулся со стоянок, и тут мы заметили какое-то движение у истребителей: голоса, огни, хлопки запускаемых двигателей. Я еще не успел разобрать что к чему, как услышал гул на южной оконечности острова. Потом такой же быстро растущий гул возник в северо-западном углу аэродрома. Я вертел головой, ни черта не понимая, когда над нами с ревом пронеслась пара самолетов, поливая стоянки пулеметным огнем. Истребители Ме-110 выскочили внезапно, словно прятались в лесу или за углом сарая.
«Раззявы! Заспали немцев!»
Грехов поднялся с земли, путаясь в длиннополом реглане и последними словами ругая посты оповещения.
Взлетело дежурное звено истребителей, застучали зенитки. Но теперь проку от них было немного. «Мессершмитты» били по зениткам с малых высот, орудия захлебывались одно за другим. Подавив половину огневых точек, немцы взялись за нас. Они налетали с разных направлений, полосуя самолетные стоянки пушечными и пулеметными очередями.
«Рябцев! — орал Грехов. — Где ты, дьявол?»
Он отшвырнул реглан, забрался в кабину стрелка-радиста. Очень ловко это у него получилось! Грехов развернул установку, поднял ствол к небу и дал длинную очередь вслед «мессершмитту». Скоро заработали турельные пулеметы на машинах Лазарева и Преснецова.
Не знаю, сколько времени продолжался налет, но лежать на земле, которую с воем рыли снаряды, было скучно.
Наступила тишина, и я услышал голос Грехова:
«Все! Нас Бог миловал. — Грехов поднял с земли прошитый пулеметной очередью реглан. — Пошли».
Возле кирхи догорал сбитый зенитчиками «мессершмитт». Но радоваться особенно было нечему. Расчеты зенитных орудий понесли большие потери, было много раненых, сгорели флагманская машина и самолет Скосырева. В своей кабине был убит стрелок-радист Преснецова.
На остров опустилась ночь — сырая, ветреная. Грехов натянул дырявый реглан.
«Теперь они нам не дадут покоя», — сказал он мрачно.
Накрытая маскировочной сетью машина Навроцкого стояла вплотную к леску. Егор Кузоваткин вышел из-за деревьев и протянул летчикам котелок с черникой.
— Ты что, Егор? Опять по ягоды ходил? — спросил штурман Ершаков. — Смотри, парень! Шлепнут тебя в лесу. Слыхал про диверсантов?
— Тут в низине полянка есть, — виновато сказал Егор. — Хорошая ягода, крупная… Берите, товарищ лейтенант.
На стоянке кроме Ершакова были Навроцкий, Грехов, Стогов, Преснецов в летном шлеме с поднятыми наушниками, что придавало ему залихватский вид.
На траве лежали бомбы в деревянных обрешетках. Старшина Гуйтер с руганью выправлял изогнутые при транспортировке стабилизаторы. Другие оружейники подвешивали бомбы: повизгивали тросы лебедок, щелкали замки бомбодержателей.
— Ну что, бомберы? — спросил Ершаков. — Как над целью?
— А-а! — Преснецов взмахнул рукой. — Конь под нами, а Бог над нами.
— Я не о том. Как над целью, если чего?..
— Делов-то, — сказал Грехов.
— Я отцепляю парашют, — сказал Ершаков. — Он мне мешает. А ты? — Штурман повернулся к Преснецову. — Ты чего молчишь?
Преснецов с улыбкой смотрел на Гуйтера. Старый оружейник сидел на корточках перед бомбой и старательно выводил мелом: Гитлеру от Гуйтера.
— О чем говорить? — спросил Преснецов.
— Отцепляешь ты парашют?
— Нет. Я буду прыгать.
— Прыгать? А дальше что?
— Буду драться.
— Удалы долго не робеют, — сказал Ершаков. — Чем драться-то будешь?
— Пистолетом, колом, зубами…
— Орел! — Ершаков ухмыльнулся. — Знай немец нашего Пашу, он бы тут же бросил воевать.
Преснецов отшвырнул папиросу.
— Нет, штурман! Не то ты, не так… Равнодушие… — Преснецов искал слова — безразличие к смерти — не то! Не верь ей, не признавай ее, паскуду, не поддавайся, не гнись… Иди на нее, она не сдюжит. — Он повернулся к Навроцкому. — Скажи, Аркадий!
Навроцкий с безмятежной улыбкой смотрел на Преснецова, но едва ли он его видел. Он стоял в расстегнутой куртке, с непокрытой головой, ел ягоды и улыбался, подставив лицо солнцу.
Летом 1887 года в Кронштадт приехал французский инженер с двадцатилетней дочерью. Смуглая черноглазая красавица, ни слова не знавшая по-русски, в одночасье окрутила нескладного преподавателя Минной школы и через год родила ему сына. Это был отец Навроцкого.
Лейтенант Аркадий Навроцкий тоже родился в Кронштадте. Все его предки и близкие родственники были военными. Но это были ученые военные. Дед хорошо знал изобретателя радио Александра Попова и преподавал вместе с ним в Минном офицерском классе, отец работал в Военно-морском госпитале, основанном по указу Петра I, дядька был военным историком. Мать Навроцкого умерла молодой, он почти не помнил ее.