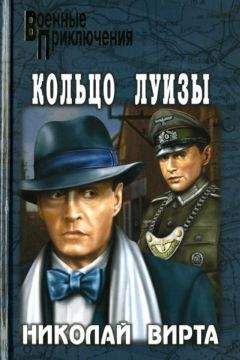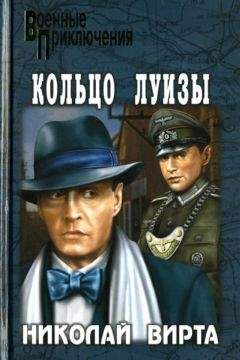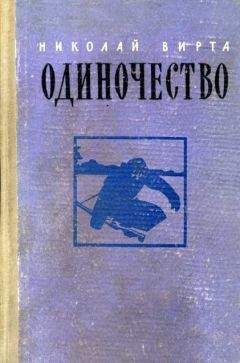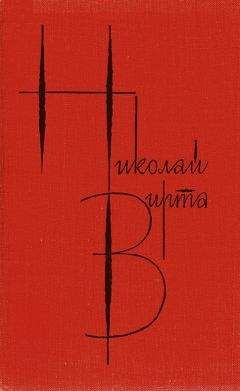Хубе кивает. Самолет готов к вылету. Генерал-полковник кричит ему еще что-то. Дверь закрыта, самолет улетает. Проходят дни. Хубе возвращается. Да, он видел фюрера и говорил с ним. Вот их разговор.
— Но рейхсмаршал Геринг заверил меня, что снабжение армии идет нормально!
— Это не совсем так, мой фюрер.
— Пусть он сам скажет вам. Вызвать рейхсмаршала! Здравствуй, Герман. Повтори, можно ли осуществить полное снабжение армии Паулюса по воздуху?
— Адольф, разве ты сомневаешься в том, что ВВС справятся со снабжением армии?
— Этого быть не может, господин рейхсмаршал, и вы отлично это знаете!
— Вы некомпетентны в этих делах, черт побери. Я клянусь, Адольф, понимаешь, клянусь.
— Господин рейхсмаршал, сколько тонн необходимо перебрасывать каждый день армии?
— Это что, допрос? — Тучный живот снова заколыхался от ярости. — Он устраивает мне допрос, этот генерал, подчиненный генералу от паники!
— Нет, господин рейхсмаршал, это лишь вопрос. При суточной норме снабжения, скажем, в количестве одного килограмма двухсот двадцати пяти граммов продовольствия на человека, по десяти снарядов на орудие каждый день надо доставлять в окруженную армию от тысячи до тысячи двухсот тонн грузов. Фюрер, этот расчет сделан фельдмаршалом фон Манштейном…
— Мы будем перебрасывать каждый день тысячу тонн, Адольф!
— Это невозможно, мой фюрер. В течение всей операции войскам Паулюса в среднем каждые сутки доставляют девяносто пять тонн разных грузов. Это в двенадцать раз меньше того, что требует обстановка в котле. Господин рейхсмаршал тешит вас, мой фюрер, несбыточными обещаниями.
— Ах, так?… — Поток ругательств и оскорблений. Хубе стоит молча. — Адольф, я сам поведу первый самолет с грузом для армии генерала, которого давно бы надо расстрелять! Этот кабинетный стратег… Этот пожимающий плечами!… — Рейхсмаршал задохнулся от злости.
— И тем не менее позвольте не поверить, что вы можете перебрасывать такое количество грузов, господин рейхсмаршал!
— Я и Герман — одно вот уже двадцать лет. Довольно! Возвращайтесь в армию и скажите ее командующему, что я запрещаю разговоры о капитуляции! — Резкий взмах рукой вверх.
— Хайль Гитлер! — Хубе уходит.
— …Адам, сколько тонн грузов доставлено сегодня рейхсмаршалом? — очнувшись, обратился генерал-полковник к адъютанту.
— Сегодня была нелетная погода, господин командующий.
— Вчера?
— Ничего.
— Позавчера?
— Ничего.
— Завтра?
— Кто знает.
Молчание.
— Хайн!
— Слушаю вас, господин командующий. — Хайн пулей вылетел из своей клетушки.
— Хайн, будем обедать. Генерал Шмидт пообедает со мной.
— Я бы предпочел…
— Итак, вы будете обедать со мной, Шмидт. Хайн, убери со стола коньяк. И не разбей бутылки, увалень.
Хайн выскочил в коридор.
Шмидт сказал:
— Я слышал, хм… что вы подарили новогоднего гуся раненым?
— Да. Хайн пережарил его. Гусь попался несколько тощий. Вероятно, он был стар, и гусыни давно не имели от него утех. Но под коньяк кусочек гусятины прошел славно. — Генерал-полковник усмехнулся, отчего глаз его дрогнул и веко запрыгало, как сумасшедшее.
— Вы неисправимый идеалист, — сказал Шмидт, пряча досаду. Теперь было ясно, что гуся действительно нет.
— Идеалист?
— Да еще какой! Этим поступком вы лишь восстановили раненых против себя. В госпитале, куда вы отослали гуся, триста раненых, в том числе половина — безнадежных. Гуся — это я точно знаю — можно разделить не более чем на двенадцать частей. Значит, двенадцать раненых будут есть гусятину, а двести восемьдесят восемь — проклинать вас.
— Вы очень сведущи в арифметике, — заметил Адам.
— И в человеческой психологии, замечу.
— Вот как?
— До войны я был знаком с многочисленными учеными, главным образом психологами. Моя жена — специалист по этой части. Я вращался в их кругу, и они охотно делились со мной наблюдениями над природой человеческой души. Затем я занялся этим сам, и не без успеха. По крайней мере жена отмечала мои необычайные способности к анализу и самоанализу.
— Скажите! — притворно восхищенно сказал Адам.
— Кроме всего прочего, я знаток живописи, с вашего разрешения, — добавил Шмидт.
— Вот бы вам изобразить сцену в госпитале, когда господин командующий раздавал ордена. Это была бы жестокая, но правдивая картина. Потомство оценило бы ваш труд, — вставил Адам.
— Смею спросить: это было в том самом госпитале, куда вы, господин командующий, отправили гуся?
— Так точно. Так точно, Шмидт, там.
— Насколько я знаю, вы тоже занимаетесь живописью, господин командующий?
— О, просто балуюсь.
— И вам ли не взяться за изображение такой картины: двенадцать раненых со смаком делят ваше угощение, а двести восемьдесят восемь — смотрят, как те обжираются гусятиной.
— Да, это была бы первоклассная картина, — согласился генерал-полковник.
— Жестокая и правдивая, не так ли?
— Но я плохой знаток человеческой психологии, Шмидт, и у меня получилось бы нечто отвратительное. Натурализм — кажется, так называется это течение в искусстве? Впрочем, вам ли не знать…
Шмидту нечего было сказать, но и придраться было не к чему. К тому же явился Хайн с подносом.
Генерал-полковник встал с койки, устало потянулся.
— Что у вас сегодня на обед, Хайн? — спросил Шмидт.
— Первоклассные блюда, господин генерал-лейтенант! — Хайн расстилал на письменном столе скатерть и ставил приборы, походные приборы, которые он таскал по длинным путям войны сначала с неудачником Рейхенау, теперь с этим незадачливым генералом.
— Стало быть, обед будет из тех продуктов, которые нам прислал господин рейхсмаршал, мальчик? — заметил Адам.
Хайн расхохотался. Он не вращался среди психологов, не умел — увы! — скрывать свои чувства, анализ и само анализ тоже были чужды ему. Он просто мечтал о вечернем пиршестве.
— Что ты смеешься, идиот? — накинулся на него Шмидт.
— Почему бы ему и не посмеяться, Шмидт? Он моложе нас больше чем наполовину. Вероятно, и вы в его возрасте часто смеялись беспричинно.
— Он смеялся над рейхсмаршалом! — побагровев, выкрикнул Шмидт. — Он издевается над ним!
— Побойтесь бога, Шмидт! — Лицо генерал-полковника хранило полную невозмутимость. — Разве я допустил бы издевательство над великим человеком в моем присутствии? Хайн — просто неловкий малый и с придурью. В следующий раз он остережется смеяться не ко времени.
— Так точно! — весело ответил Хайн. — Прошу к столу.
Сели.
Трижды звякнуло горлышко бутылки о края рюмок.
— Хайль Гитлер! — раздался звучный, не по летам молодой голос Шмидта.
— Хайль Гитлер! — вяло сказал генерал-полковник.
— Хайль Гитлер, — пробормотал Адам.
Выпили.
Хайн сделал губами звук, будто выпил и он.
Адам рассмеялся и налил рюмку.
— Выпей, Хайн. За что ты будешь пить?
— За гуся! — ответил Хайн.
— Он уплыл в животы раненых, — шутливо заметил Шмидт.
— Гусей еще много на свете, господин генерал-лейтенант. Есть гусь, который важно похаживает на воле. Но я доберусь и до него. И попорчу ему настроение, будьте уверены.
Генерал-полковник не мог понять двусмысленных слов ординарца, но Шмидт очень хорошо понял их. Однако он предпочел пропустить угрозу мимо ушей, прилежно занялся едой, и это несколько улучшило его настроение.
— Закуска к новогоднему обеду командующего армией могла бы быть несколько обильнее, — процедил Шмидт.
— Что вы, Шмидт! Королевская закуска, — рассеянно проговорил генерал-полковник. Он не замечал, что ест. Его знобило, хотелось лечь. Он выпил еще рюмку коньяку и отправил в рот кусочек мяса, поданного в качестве закуски перед последующими блюдами.
Шмидт обнюхал мясо.
— Это что, Хайн? — спросил он.
— Конина, господин генерал-лейтенант. Бывшая румынская кавалерия, с вашего разрешения! — Хайн хихикнул.
Командующий строго взглянул на него.
— Неужели вы едите эту мерзость? — разнервничался Шмидт.
— Эту мерзость ест вся армия, господин генерал-лейтенант. Если я не ошибаюсь, ее тоже осталось очень мало. К сожалению, мы не можем угостить вас парижскими трюфелями, голландской телятиной, швейцарским сыром, устрицами, омарами и анчоусами.
Хайн ухмыльнулся втихомолку на эти слова Адама.
— Однако в свое время вы вдоволь полакомились всем этим. Ваш великолепный марш по Франции доставил вам много удовольствий, не так ли? — Глаза Шмидта заразительно весело блеснули.
ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОГУЛКАХ ВО ФРАНЦИИ
— Да, во Франции было совсем иначе, Шмидт, совсем, совсем иначе! — как бы про себя проговорил генерал-полковник и замолчал, вспомнив майскую ночь сорокового года, когда взвыли двигатели бомбардировщиков, истребителей, танков и гигантская машина ожила, зашевелилась, ринулась вперед и опрокинулась на города и деревни Франции.