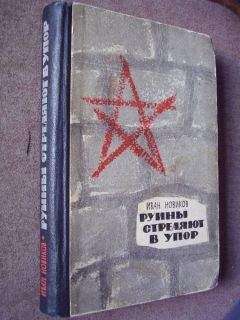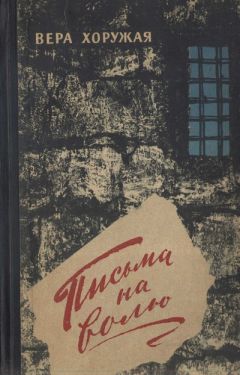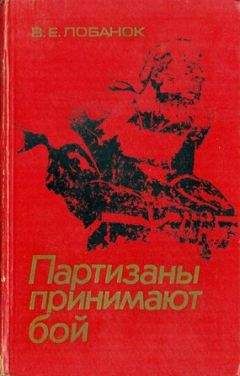Фашистская типография очутилась в этом доме не случайно. До оккупации здесь печаталась красноармейская газета. Немцам пришлось только заменить русские шрифты на свои. А рабочих они подобрали из местного населения, преимущественно евреев, которые хоть кое-как знали немецкий язык. Заставили они работать здесь и опытного мастера-наборщика Каплана.
Старику дали аусвайс, и он изредка мог выходить на улицу один, даже за пределы гетто. Вот он и зашел к Глафире.
Знакомы они были давно, доверяли друг другу, поэтому теперь говорили открыто.
— Я за помощью к вам, Глафира Васильевна, — сказал Осип Каплан, сидя на самом кончике стула и настороженно посматривая из-под очков выпуклыми черными глазами. — Крайняя нужда заставила меня прийти. Я знаю, что у вас маленькие дети, опасность...
— Пожалуйста, я с радостью помогу вам, если только сумею...
— Нет, не о себе я прошу. Со мной в типографии работает один командир Красной Армии. Конечно, немцы не знают, что он был командиром. Попал он к ним уже переодетый. Но все же задержали его как пленного и к нам привели. Так вот, он хочет к партизанам податься. А одежда на нем — одни лохмотья, сами увидите. Может, у вас от мужа осталось что-нибудь?.. Ну, брюки, костюм и, может, пальто какое-нибудь... Так не пожалейте для хорошего человека. Знаю, он в самом деле хороший, наш, советский человек.
Глафира Васильевна ни минуты не колебалась. Разве можно было поскупиться, ответить отказом на такую просьбу, если речь шла о жизни человека? Заглянув в шкаф, она ответила:
— А как же передать ему? Или вы отнесете?
— Нет, давайте условимся так. Завтра перед концом работы вы подойдете к воротам школы. Я покажу вас ему, он выйдет, и вы с ним поговорите.
Сегодня Глафира Васильевна собиралась встретиться с неизвестным ей командиром Красной Армии. Она немного волновалась: чего не бывает, можно наткнуться на неприятность... Фашисты бросают в тюрьму каждого, кто только покажется им подозрительным. Но и не пойти на это свидание она не могла. Отказать человеку, попавшему в беду, — значит опозорить себя в своих же глазах.
— Быстрей одевайся, — торопила она шестилетнюю дочку Зою. — Нас там, может быть, ждут...
— А кто нас ждет, мама?
— Увидишь. Только о том, что узнаешь, никому, совсем никому ни слова... Слышишь? А то немцы схватят и тебя и меня и замучают.
— Нет, мамочка, я никому ничего...
С девочкой идти было безопасно. Кто мог подумать, что женщина с ребенком что-то замыслила против фашистов?
Подошли к Татарскому мосту, как раз против здания школы. Возле ворот немного замедлили шаги и потихоньку пошли вверх, в сторону Театра оперы и балета. На углу улицы Горького и Коммунистического переулка оглянулись.
Из ворот вышел высокий и с виду сильный человек. Шел он, гордо подняв непокрытую голову, будто на этой земле не немцы, а он был хозяин. Первое, что бросилось в глаза Сусловой, — это его не по обстоятельствам гордая осанка.
Но разглядывать некогда было. Глафира Васильевна, взяв Зою за руку, медленно направилась к Театральному проезду. Человек догнал ее:
— Глафира Васильевна? Я — по рекомендации Каплана. Андрей Иванович Подопригора.
И крепко пожал руку.
«Да, фамилия очень подходит тебе...» — подумала Глафира Васильевна, окидывая взглядом могучую, гордую фигуру нового знакомого.
Теперь она могла спокойно рассмотреть его. Виски Андрея Ивановича посеребрила седина. Выразительные серые глаза светились лаской и доброжелательностью. А одежда действительно вызывала удивление и подозрение. Черная сатиновая рубашка с белыми пуговицами, казалось, вот-вот расползется на широченных плечах. Рукава ее едва прикрывали Андрею Ивановичу локти. Темно-серые кортовые брюки спускались только немного ниже колен. Щиколотки были обернуты портянками, заправленными в солдатские ботинки.
Все было с чужого плеча, это мог сказать и ребенок. Не дураки же немцы, чтобы не заметить этого.
— Нам нужно поговорить спокойно, Глафира Васильевна, — сказал Подопригора. — Где мы можем сделать это?
— Зеленый домик за речкой видите? — спросила она.
— Вижу.
— Приходите туда. На втором этаже я живу. Вон мои окна...
— Ждите через час-другой... Если можно, поищите, будьте добры, мне белье. Очень в баню нужно...
— Приходите, приходите...
Кивнув головой, она пошла домой, а он повернул назад.
Часа через два он, как и обещал, пришел к ней. Еще раз поздоровался:
— Добрый день в дом... Давно уж мне не приходилось видеть обычный семейный угол.
— Какая здесь семья! Половина семьи — муж...
Она осеклась. И без того ясно, где теперь мужчины, если их нет дома. И, может, чужая, неизвестная ей женщина, как вот и она сейчас, подбирает ее мужу одежду, которая осталась от мужа-фронтовика.
Она уткнулась в шкаф и выбирала, выбирала сорочки мужа, белье, брюки, складывая все это на стул. А он сидел возле стола, посматривал в окно на улицу и говорил, будто угадав ее невеселые мысли:
— И у меня есть жена, мать, сестры... Они не знают, где я, — наверно, считают, что погиб. И как же теперь известишь. Где-то слезами обливаются...
— А давно вы с ними расстались?
— Перед самым началом войны. Нашу часть как раз перевели из Гомельщины на границу. Жену забрать не успел. Она там служит в военной части.
— И дети с ней?
— Детей у нас нет.
— Так вы из Гомельщины?
— Нет, я киевлянин. Там работал в одной типографии, пока не призвали в армию. Я с тридцать второго года служу. Как видите, я откровенен с вами, ведь Каплан только хорошее говорил о вас.
— Можете не сомневаться, я не подведу. А теперь собирайтесь. Прикиньте, подойдет вам одежда моего мужа? Он тоже рослый, крепкий...
Он встал, чуть не подпирая чубом потолок, примерил бостоновые темно-синие брюки, а также рубашку со множеством пуговиц от воротника до подола. На белье только бросил беглый взгляд...
— Полотенце не забудьте, — напомнила хозяйка.
— Не знаю, как отблагодарить вас, Глафира Васильевна...
— Да чего там благодарить! Все равно носить некому. А вернется муж — не такое наживем. Только бы вернулся живой... Померяйте еще вот это пальто...
Она вытащила из шкафа новое, красиво сшитое теплое пальто мужа.
— Нет, спасибо, это уж я не возьму. Зачем же вас грабить? У вас дети, им есть нужно. Продадите, продуктов купите.
— Тогда пиджак хоть возьмите. На дворе холодно, простудиться ничего не стоит. А лечить вас, должно быть, некому...
— Да это верно, но я и так многое взял у вас.
— Не обеднею, берите.
Он надел еще совсем крепкое полупальто, пошевелил плечами и от удовольствия тряхнул лопаточкой бороды:
— Как на меня сшито...
— Вот и носите на здоровье. А шапки нет. Чего нет, того нет.
— Найду как-нибудь. В конце концов, голова не отмерзнет, был бы сам тепло одет.
С того дня Подопригора стал все чаще заходить к Глафире Васильевне.
Зайдет, сядет все на том же месте, возле стола, и, посматривая в окно на улицу, расспрашивает, расспрашивает:
— А кто из ваших знакомых остался в Минске? С кем вы встречаетесь, когда бываете в городе? Что рассказывают ваши знакомые?
И про себя открылся смело:
— Фамилия моя не Подопригора, а Иванов. И настоящее имя — Николай. А чтобы от немцев скрыться, я взял имя и фамилию своего друга, с которым когда-то работал в типографии в Киеве. Так легче привыкнуть к новому имени. Только вам я открылся. Если что со мной случится, дайте знать моим родственникам и жене. Вот их адреса...
Я был начальником штаба артиллерийского полка, — продолжал он спокойным голосом, будто сказку рассказывал. — От самой границы мы отступали с боями. Поколошматили нас здорово, от полка осталось каких-нибудь два десятка человек, и те не люди, а тени. Окружили нас. Хорошо, что леса начались, глухие, бесконечные. Фашисты туда не лезли, но и нам не сладко — хоть волком вой. На ягодах да грибах силу не нагуляешь. И на восток нужно пробиваться. Выбрались мы из пущи, хутора начались. Двигаться дальше решили мелкими группами, так как отряд в пятнадцать — двадцать человек фашисты легко заметили бы.
Со мной шел заместитель командира полка по комсомолу Кузьма Кузьмич. Вместе с ним я закопал в лесу штабные документы, попросил у крестьян гражданскую одежду, а свою им оставил. Как меня одели, вы видели. Пугало, да и только. И не удивительно, на мой рост нелегко подобрать.
Идем, а сами не знаем куда. Кругом, видим, немцы. Ночами шли, а днем отсыпались. И все же наткнулись на фашистов. «Хальт! — кричат. — Кто? Откуда?» — «Из тюрьмы», — говорим. На арестантов мы здорово похожи, но фашисты не поверили, загнали в лагерь. Здесь, в Минске.
Держались мы небольшой группой, четыре человека, обдумывали, как бы удрать из лагеря. Были там канализационные колодцы. Конечно, они высохли. Мы залезли в них и шли, пока можно было. Думали, что выйдем за пределы лагеря. Но напрасно!