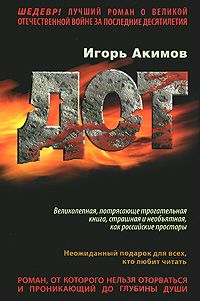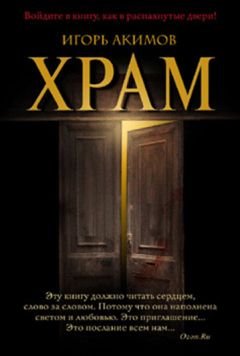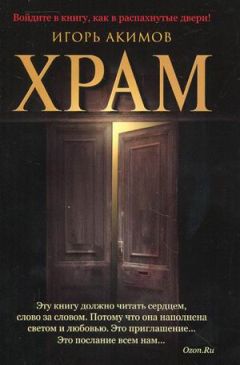— Это как же — ты уже успел поменять мне повязку?
— Так точно.
Я все время хотел что-то у него спросить, вспомнил Тимофей, вспомнил поверхностно и как бы обреченно, зная наперед, что вспомнить все равно не удастся, но вопрос открылся ему неожиданно легко.
— Все хотел спросить: у меня сквозная рана?
— Нет, товарищ комод. Пулю придется искать, когда доберемся до госпиталя.
— Искать не придется, — сказал Тимофей. — Я знаю, где она.
— Каким образом?
— Я ее чувствую. Вот здесь — в спине, между ребрами. Как ни повернешься — давит. — Тимофей вздохнул. — Совсем перестал соображать. Такая простая мысль, все рядом…
— А как же решим насчет воды?
— Никак. Дотерплю до утра.
— Не дотерпите, товарищ комод. Это ведь природа. Динамику процесса силой воли не повернешь.
— Ты меня не знаешь, Залогин. К твоему сведению, сейчас я чувствую себя куда лучше, чем когда очнулся.
Залогин замер. Это ведь подарок смерти: перед тем, как забрать человека, она дарит ему облегчение и покой. Говорят, объяснение этому простое: цепляясь за жизнь, тело — в инстинктивном усилии — бросает на кон все силы, которые в нем остались, до последней капли. Досуха. И у него получается! Как Мюнхгаузен, который вырвал себя за волосы из смертоносной трясины, тело возносится до состояния, которое бывало у него в лучшие минуты жизни, когда не только ничего не болело, но тело было таким легчайшим, воздушным, словно вообще переставало существовать. Вот так костер, перед тем, как окончательно погаснуть, озаряет окружающее пространство неожиданной вспышкой, чтобы, как фотограф, запечатлеть его в памяти, — и в следующее мгновение гаснет. Все. Тьма.
— Есть альтернатива, товарищ комод. Может быть, вас удастся спасти, если вы будете пить мочу.
— Не понял.
— А чего тут непонятного? Помочитесь в фуражку — и выпьете. Хоть какая-то компенсация. И шанс, что плазма, которая находится в моче, своей энергетикой хоть на сколько-то стимульнет кровь.
— Ты предлагаешь мне пить ссаки?
— Не ссаки, а мочу. Специфическое выделение человеческого тела. Вашего тела, товарищ комод.
Залогин подождал, давая Тимофею возможность переварить это ошеломительное предложение, но никакой реакции не дождался. Ну что ж, по крайней мере, перед ним не поставили шлагбаума, и поэтому он решил продвинуться дальше.
— Вы хоть представляете, товарищ комод, откуда берется ваша моча? Эта жидкость — часть вас. Часть вашей крови. Ведь если бы пришлось — разве вы отказались выпить свою же кровь?
— Тоже мне — сравнил! Кровь — и мочу…
— Но это действительно так! Судите сами, товарищ комод. Откуда берется моча? Из мочевого пузыря. А откуда она туда попадает? Из почек. А в почки поступает только кровь.
— Гладко излагаешь…
Каждый звук нужно было отрывать от зубов, от языка, от губ, выталкивать из горла. Все стало чужим. Тимофей прислушался к телу. И тело стало чужим, и может быть потому не болело. Он ничего не чувствовал, кроме холода. Плохо.
— Если не секрет — откуда такие познания?
— От папы, — обрадовался его голосу Залогин. — Он профессор, крупный физиолог, заведующий кафедрой прикладной физиологии в 1-м меде.
— Где-где?
— В 1-м медицинском институте. В Москве.
— Так ты москвич…
Это было не звуком, а как бы толчком воздуха, родившим шелест. Залогин терпеливо ждал продолжения, но его не было. Быть может, комод в самом деле умер? Ведь не только его дыхания, но даже хрипов не стало слышно…
— Не боись, он покуда живой… — Это круглоголовый. Он говорил приглушенно, для одного Залогина. — Но ты прав: без воды до утра не протянет. — Круглоголовый потянулся так, что даже суставы хрустнули. — Поразмяться, что ли? — Зевнул. — Как говорил тот парень из сказочки? — что сделаю я для людей!.. Смешно, ей-богу.
Залогин услышал, как он поднялся к окну. С легким скрипом подалась доска, и, скребнув по стене, стукнулась обо что-то.
Залогин вскочил.
— Я с тобой…
— Сам управлюсь.
Освобожденная амбразура окна — черная на черном — была вырезана в окружающем мраке: окно в бездну. И если глядеть не на какую-то конкретную звезду, взгляд улетал в пространство, падал в бездну, все дальше и глубже, все стремительней, пока не начинало казаться, что звезды — фиксируемые периферическим зрением — пролетают слева и справа — назад, мимо — и исчезают за твоей спиной, тщетно ожидая, что ты — обернувшись — продлишь своим вниманием хотя бы на несколько мгновений их эфемерную жизнь… Залогин почему-то вспомнил «Черный квадрат», вспомнил, как стоял в тесном музейном запаснике перед картиной (отца часто пускали в такие места, куда мало кого пускали), чувствуя в душе какую-то непонятную притягательность и даже сродство, и отгонял любые мысли: голова услужливо пыталась предложить свои примитивные отмычки. Отец начал было объяснять смысл картины, но сын (он учился в 10-м классе) сказал «не надо», — и отец одобрительно кивнул и улыбнулся… Это воспоминание перебилось другим: как он смотрел в звездное небо через телескоп. Телескоп был любительский, но сильный; понятно — цейссовский. Он был у соседей; Залогины жили с ними на одном этаже, дверь в дверь. Соседи были немцами из Гамбурга: глава семьи, его крепенькая жена, и двое мальчишек-близнецов. Глава семьи был видный антифашист. Они эмигрировали из гитлеровской Германии сложным маршрутом, через Швецию и еще какие-то две страны. В Москве папа-антифашист получил высокую должность во внешней разведке (Гера Залогин узнал это от своего отца несколько лет спустя; «Не болтай лишнего, — сказал папа-Залогин. — Людвиг — славный и порядочный мужик, но мало ли что…»), — вот почему их поселили не где-то, а в таком доме на улице Горького, в четырехкомнатной квартире. Гера дружил с близнецами. Он учил их разговаривать по-русски, они его — по-немецки. Они расписали дни недели — через день — когда на каком языке говорить. Суббота была для этой семьи почему-то особым днем, поэтому она из расписания выпадала…
В коровнике воздух был спертый, тяжелый от вони пота, ран и экскрементов. Уже не раз пропущенный через сотни легких, он потерял не только кислород, но и энергию. Дыхание превращалось в работу, и не каждому она была по силам.
Чтобы подышать свежим воздухом, Залогин подтянулся за высокий подоконник, встал на цыпочки. Попытка оказалась неудачной: его лицо было все еще ниже подоконника, а тяжелый воздух коровника стоял недвижимо, как вода в пруду, и не собирался вытекать. Но ведь выше, на уровне подоконника, должно быть свежее! Как бы ни был тяжел здешний воздух, верхний его слой — хотя бы до среза подоконника — должен был вытечь через окно, и ему на смену должен был влиться свежий, легкий, ночной. Он сейчас там, наверху, над головой…
Залогин поднял руку и поводил ею. И ничего не почувствовал. Наверху воздух был таким же горячим; может быть — чуть посуше… Нет, я должен высунуться в эту чертову амбразуру, сказал себе Залогин, хотя бы для того, чтобы знать, что могу воспользоваться ею в любой момент, когда мне это понадобится…
Он присел на корточки и стал ощупывать стену, ища выбоину или щель, чтобы можно было упереться в нее носком ботинка. И сразу нашел углубление в кладке, очень удобное, чтобы вставить ногу. Поискал выше — и над первым обнаружил еще одно такое же углубление. Учтя высокое расположение окна, строитель предусмотрел удобный подход к нему, чтобы не было нужды каждый раз таскать лестницу. Как же я не обратил внимания на эти пазы? — удивился Залогин. Ведь они были у меня перед лицом, и пока не стемнело… Конечно: возбуждение, переутомление, недосып, — все это объективные причины, но ведь я пограничник, и такие детали должен примечать автоматически…
Он взялся за край подоконника и легко поднялся наверх. Высунул голову. Ночной воздух был сухой, легкий и теплый. И как сладостно было им дышать!..
Трещали цикады. Звездный свет позволял проследить беленую стену коровника, но уже в трех-пяти метрах в сторону от него пространство было неразличимо. За углом коровника, возле ворот, беседовали двое немцев. Залогин прислушался. Треп. Ничего интересного.
Круглоголовый возник из мрака, словно материализовался. Залогин вздрогнул; даже сердце замерло. Спустился к Тимофею — и только тогда перевел дух. Круглоголовый скользнул следом неслышно, словно и не касался стены. Прошелестел:
— Вода — не супер. Застойная. Болотом отдает. Я даже лягушек слышал.
— Колодцем с осени никто не пользовался. — Это Тимофей. Хрипло, но внятно.
— Ты гляди — живой. Тебя напоить — или сможешь сам?
— Сам.
— Давай здоровую руку… Вот. Флягу я уже открыл.
Тимофей не почувствовал первого глотка. И второго, и третьего. Только затем рецепторы во рту очнулись; язык стал размягчаться. Тимофей провел им по лопнувшим губам, но ощутил только боль. Тогда он стал просто пить. Он понимал, что нужно оставить несколько глотков Залогину, кому-то из невидимых соседей; вот еще два, нет — три глотка, — и остановлюсь, говорил он себе — и продолжал пить. Он чувствовал, что пьет не просто воду, что в него вливается жизнь; чем больше выпьет — тем больше шансов дожить до утра, когда немцы опять подпустят водоносов к колодцу, и можно будет напиться вдоволь, досхочу, и уже уверенней наметить следующий рубеж: дожить до вечера.