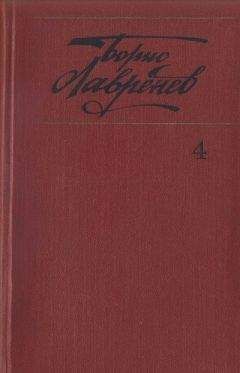Глеб подпрыгнул на стуле. Спесивцев неожиданно больно ущипнул его за плечо. Глеб взглянул на соседа, — Спесивцева трясло от еле сдерживаемого хохота.
По Коварский поднялся и растроганно потянулся к кондуктору. Оба облобызались, а фельдфебель Буланов торопливо мазнул рукавом форменки по губам в ожидании своей очереди.
По знаку старшего офицера вестовой наполнил два бокала шампанским. Рачьи буркалы Пересядченко жадно загорелись и заметались при виде волшебного офицерского напитка. Огромная ручища приняла из руки Коварского бокал, совсем закрыв его. Пересядченко зажмурился и опрокинул бокал в широко раскрытый рот. Лобойко заржал по-жеребячьи, Спесивцев уткнулся головой в стол. Буланов искоса с презрением поглядел на кондуктора и, отставив в сторону мизинец, как кокетничающая дама, слегка пригубил бокал.
До флотской службы Буланов служил камердинером у какого-то графа и знал, что это золотистое пузырчатое вино бары пьют, потягивая по малости.
— За здоровье вашего высокоблагородия и всех господ офицеров! — рявкнул Пересядченко и зеленым в клетку платком, добытым из кармана, вытер свирепые барсовы усы.
— Передайте команде, — сказал Коварский, — что я благодарю ее и доложу адмиралу о похвальных чувствах матросов. Магнус Карлович, распорядитесь выдать матросам за мой счет по две чарки и по четверти фунта конфет из буфета. Можете идти!
— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие.
Пересядченко с громом повернулся. Буланов жалостно взглянул на свой недопитый бокал, но желание показать себя не лыком шитой серой деревней превозмогло жалость. Он донес бокал до выхода, поставил его на столик у буфета и вышел вслед за Пересядченко.
Офицеры хохотали. Даже Коварский показал из-под бороды оскал редких зубов.
— Вот уморили чертовы камелеопарды! — сказал Ливенцов, вытирая слезы салфеткой.
— Не понимаю, чему смеяться, — сказал ревизор. Он единственный из всех не улыбнулся. — Очень похвально, что матросы проявляют патриотическое сознание. Это должно только радовать, и причин для смеха я не вижу.
— Ну и разрыдайтесь от высокого восторга, а учить нас, что делать, можете воздержаться, — бросил через стол Ливенцов.
— Я вас не учу, а высказываю свои соображения, — безмятежно ответил дер Моон. — Разрешите, Константин Константинович, покинуть стол для выполнения вашего распоряжения.
— Прошу, — обронил командир с явным облегчением. Он тоже не терпел ревизора и рад был освободиться от его присутствия.
Ревизор в дверях разминулся с вестовым.
— Почта! — вскрикнул лейтенант Ливенцов, увидев груду писем в руках вестового.
— Так точно, ваше высокоблагородие. Опосля боя передали на «Счастливом» — пришел из Севастополя.
Офицеры вскочили. Почта была радостным подарком.
Вестовой вертелся в кругу офицеров, вырывающих у него письма. Через спину Лобойко Глеб увидел знакомый узкий кремовый конверт. Это было письмо Мирры.
Глеб схватил его и бросился в каюту. Запер дверь и, торопясь, разорвал плотную бумагу. Сел в кресло и придвинул лампочку.
«Глебушка, родной мой. Только что купила на улице экстренную телеграмму о турецком нападении. Прибежала домой, как сумасшедшая, испугала Сеню и заперлась писать. Что с тобой? Жив ли ты, цел ли? Боже мой, как мучительно чувствовать разделяющее нас огромное расстояние, полную беспомощность и невозможность знать все о тебе. Такое страшное одиночество, такая тоска все двадцать четыре часа в сутки. Слышишь ли, как тревожно в этой пустоте бьется мое сердце? Через тысячи верст тянется от меня к тебе тоненькая пульсирующая ниточка, и все время она по капелькам сочится кровью.
Все чаще и чаще я думаю — что мы сделали и какая на нас вина в том страшном, унылом и черном, что делается вокруг? Три месяца всего назад шумело общее ликование, а сейчас везде и всюду печаль, слезы, подавленность. Три дня тому назад нашим соседям по лестнице привезли с фронта их единственного сына. После твоего отъезда я несколько раз встречала на лестнице этого розового веселого мальчика. Он, как молодой зверек, прыгал через две ступеньки, звеня оружием и шпорами. Потом уехал, а теперь денщик привез все, что от него осталось, — игрушечный ящик, в котором с трудом можно было бы уложить кролика. Его разорвало снарядом под Праснышом. Эту крошечную коробку уложили в большой гроб и отвезли на Смоленское кладбище, в мокрую болотную яму. И я начинаю сжиматься и дрожать от ужаса, что тебя, любимого, живого, могут забить в такой же отвратительный, пугающий ящик и бросить, как ненужный багаж, в грязный товарный вагон.
Глебушка, я бы все отдала за то, чтобы на одну минутку заглянуть в родные твои глаза, прижаться к плечу и выплакаться. Здесь я даже плакать не могу — я замыкаюсь в корку одиночества, и глаза мои сухи. Семена спасает ирония, он ко всему относится с циническим равнодушием, и его девиз: „Чем хуже, тем лучше“. Я так не могу. Каждый день наносит мне незаживающие царапины. Ученье я забросила, да и можно ли сейчас учиться? Единственную радость нахожу в деле, о котором сейчас писать не могу, — расскажу об этом, только когда встретимся. Мне отчаянно хочется бросить все и приехать к тебе на два хоть — три дня, но это пока немыслимо, я не хочу ставить ни тебя, ни себя в ложное положение. Дальше — увидим.
Что будет со мной, с тобой, с нами всеми, с Россией? У меня самые мрачные мысли, самые горькие предчувствия чего-то небывало страшного, опустошительного, какой-то неслыханной еще катастрофы.
И главное, я не знаю, что с тобой. Пиши чаще, пиши, по возможности, каждый день, иначе мне слишком тяжело. Груз этого безвестия надламывает слабые мои плечи. Крепко и нежно целую тебя, родной мой мальчик».
Глеб бережно сложил письмо и положил его в ящик стола.
Взволнованно встал. В памяти неожиданно всплыл вечерний час на балконе высокого дома у Пяти Углов. Призрачный свет июльской ночи, глухой топот множества ног по торцам, томительное бряканье котелков и прикладов. Серые, запыленные ряды усталой пехоты, текущей по опустелой улице в ночном безмолвии. Не солдаты, не герои, а каторжники, покорно и беспрекословно идущие по этапу на кровавое испытание.
Глеб закрыл глаза, и пространства внезапно раздвинулись перед ним. Он увидел бесчисленные, уходящие в недосягаемую даль улицы. Широким веером они сходились к огромной площади, на которой один, в бледной ночной темноте, стоял Глеб у бездонного провала, холодно чернеющего под его ногами. По улицам, мрачно гремя о камни коваными каблуками, с глухим звоном прикладов и котелков, шли бесконечные ряды изнуренной, пропыленной пехоты, понурив головы и плечи. Над ними вялыми складками шелка, в полном безветрии, свисали полотнища знамен и флагов. Глеб узнавал одни за другим: английский, французский, немецкий, австрийский, японский, бельгийский национальные цвета всех держав, ринувшихся в грохотный вихрь войны. Пехота из улиц вливалась на площадь, направляясь к провалу. У острого края этой внезапной бездны по первым шеренгам пробежала томительная судорога испуга и нерешительности. Но резко звучала команда, и люди с закрытыми глазами свергались вниз ряд за рядом. И вдруг из этой безнадежно покорной массы вырвался маленький солдатик с ополоумевшими пустыми глазами. На самом краю провала он швырнул наземь винтовку, закрыл руками лицо и рванулся назад. Глеб услыхал его тоненький, надорванный страхом заячий выкрик: «Мама!» Ближайшие в рядах вскинули головы, прислушиваясь. Тогда высокий широкоплечий офицер быстро ткнул револьвером в затылок солдатика. Офицер ногой столкнул свернувшееся маленькое тело в провал и, закрыв глаза, прыгнул сам…
Глеб в ужасе попятился. Больно наткнулся виском на угол шкафа.
Все исчезло. Лакированная клетушка каюты обычно проступила сквозь расплывающуюся муть бреда.
Голову разламывало все усиливающейся болью.
— Явно отравился пироксилином… Галлюцинация, — вслух сказал Глеб.
Потянуло на палубу, на воздух, под свежее дыхание осеннего шумного ветра. Глеб надел шинель, по пустому коридору добрел до офицерского трапа и выбрался на верхнюю палубу.
Море хлестало борты корабля тяжелыми, мокрыми оплеухами. В низко бегущих тучах медленно и головокружительно раскачивалась фок-мачта. Ветер рвал и сбивал с ног.
Глеб пересек ют и, цепко держась за поручни, вскарабкался по трапу на ростры. Здесь, за пирамидой шлюпок, было тише и теплей. Глеб снял фуражку. Ветер растрепал волосы, приятным холодком пощекотал кожу головы. Стало легче. Глеб прислонился спиной к борту катера.
Он стоял, стараясь унять быстрый и гулкий стрекот крови в висках и вспоминая с отчаянием и безнадежностью события последних месяцев, которые стремительно мелькали перед ним, как обрывки фильма на экране кинотеатра.