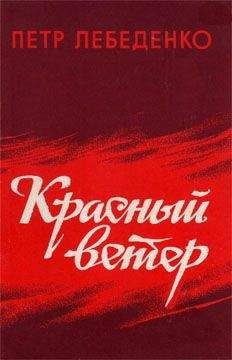— Это же Денисио! Это же наш Денисио! Эстрелья, какого черта ты захватила нашего Денисио и не даешь нам на него посмотреть!
Мексиканец Хуан Морадо стремительно выскочил из-за стола, почти силой оторвал Эстрелью от Денисио и потащил его поближе к тусклой коптилке.
— Денисио? — Хуан Морадо был взволнован до крайности. — Денисио? — повторил он, пристально вглядываясь в его лицо. — Хочешь, я начну сейчас молиться всем святым? И Педро Мачо за это меня не осудит… А хочешь, я спляшу для тебя, самый веселый мексиканский танец? Да произнеси ты хоть слово, черт бы тебя подрал! Или стукни меня как следует, иначе я буду думать, что все это мне снится.
— Стукни его, Денисио! — это сказал комиссар Педро Мачо, обнимая Денисио. — Стукни, слышишь? И меня заодно…
И лишь Риос Амайа продолжал сидеть за столом. Скрестив руки, он опустил на них голову и смотрел на Денисио так, словно перед ним происходило чудо. Глаза у него, как всегда, были усталые, но сейчас Денисио видел в них столько тепла, что ему вдруг показалось, будто он нежданно-негаданно увидел глаза своего отца. Ему так и хотелось сказать: «Здравствуй, отец! Денисио-младший докладывает…»
И в это самое время Риос Амайа, подняв голову, проговорил:
— Ну, здравствуй, сынок… Подойди, я обниму тебя…
Потом он спросил, указывая на продолжавших стоять у двери Эмилио Прадоса, Роситу и Эскуэро:
— Это твои друзья? — Пристально вгляделся в лицо Эмилио, вышел из-за стола, приблизился к нему и протянул руку. — Если не ошибаюсь, капитан Прадос?
— Капитан Прадос, — улыбнулся Эмилио. — Наверное, в таком виде меня не узнала бы и собственная мать… А это — механик Эскуэро. Без его помощи нам вряд ли удалось бы сюда добраться…
Риос Амайа пожал руку Эскуэро и вопросительно взглянул на Роситу. Та смутилась, не зная, что делать и что говорить. Эмилио Прадос тоже молчал. Тогда Денисио сказал:
— Эта девушка спасла жизнь капитану Прадосу. Обо всем этом мы расскажем потом. А пока, если вы не возражаете, она останется у нас в полку. Вместе с Эстрельей. Думаю, что работа для нее найдется…
— Хорошо, — сказал Риос Амайа. — Эстрелья, не принесешь ли ты нам по стаканчику вина?.. Такая ночь!.. Или уже утро?
Он видел, как Денисио беспокойно и встревоженно оглядывает летчиков, один за другим входивших в штаб. Кое-кто из них, отойдя подальше от двери и прислонившись к стене, с удивлением и явным недоверием рассматривал бородатого мужчину («Неужели это наш Денисио? Какого дьявола — этот человек совсем на него не похож!»), другие, едва переступив порог, орали: «Денисио! А ну-ка подай голос, слышишь? Или стукни баррину, тогда окончательно поверим, что это ты!»
А Денисио с блуждающей на лице улыбкой продолжал всматриваться в знакомые и незнакомые лица летчиков — их было немало, совсем незнакомых («Наверное, — подумал он, — в мое отсутствие полк не раз пополнялся новыми людьми»), то и дело поглядывая на дверь, словно с нетерпением кого-то поджидая.
Риос Амайа наконец сказал:
— Твой друг Арно Шарвен улетел в Аликанте за новой машиной.
Педро Мачо добавил:
— Из Советского Союза пришла большая партия самолетов: «моски», «чатос» и «катюши»[29].
Денисио едва заметно кивнул головой:
— Да, да… Очень хорошо.
Эстрелья потянула его за руку:
— Пойдем, Денисио. Тебе надо привести себя в порядок. И твоим друзьям тоже.
— Подожди, Эстрелья. Подожди. Я хочу побыть здесь еще немного. Почему нет Павлито? И Гильома Боньяра? Они тоже улетели за новыми машинами?
Он пытался обмануть самого себя. Нет, какая-то надежда все же таилась в его душе. Вот сейчас комиссар Педро Мачо или Хуан Морадо подтвердят: «Да, они тоже улетели в Аликанте… Вместе с Арно Шарвеном…» Но почему Риос Амайа назвал лишь Арно Шарвена? «Твой друг Арно Шарвен…» В первую очередь он должен был назвать Павлито. Разве нет?
В наступившей тишине — кажется, люди вдруг перестали даже дышать — голос Денисио прозвучал сдавленно, будто горло сжали спазмы:
— Павлито и Гильом Боньяр…
Он увидел, как Педро Мачо, глядя на него скорбными глазами, медленно покрутил головой из стороны в сторону, Хуан Морадо устало закрыл лицо руками, а Риос Амайа уставился в лежащую перед ним карту.
— Павлито и Гильом Боньяр… — Денисио все же еще раз хотел спросить: «Тоже улетели в Аликанте?» — но вдруг почувствовал всю безнадежность и бессмысленность самообмана. Разве он ничего не видит? Разве эта внезапно наступившая тишина ни о чем ему не сказала?.. Павлито и Гильома Боньяра больше нет. Павлито и Гильом Боньяр погибли… «Я защищаю человечество!»— говорил Павлито. А его самого никто не защитил. Никто…
Какая-то незнакомая доселе боль прошла через сердце Денисио, потом он ощутил горячую волну, коснувшуюся мозга. Такого с ним еще не было. Такого он еще никогда не испытывал. Вот туманятся, туманятся его мысли, что-то бредовое, скверное появляется в них, и он не в силах отогнать от себя прочь это бредовое и скверное. «Как же вы не уберегли его? — теперь уже тяжелым взглядом, в котором нетрудно уловить отчуждение и неприязнь, думает Денисио, окидывая мексиканца Хуана Морадо, командира полка Риоса Амайу, летчиков и даже комиссара Педро Мачо, человека, чьи достоинства Денисио всегда считал неоценимыми. — Как же вы могли допустить, чтобы Павлито и Гильом Боньяр…»
Все протестует в нем против этих мыслей. Он что, сошел с ума? Разве он не знает, что каждый из этих людей меньше всего думает о том, чтобы из любого боя выбраться живыми? Разве он своими собственными глазами не видел, как они, прикрывая друг друга, не раз подставляли себя под удар?
«Но Павлито и Боньяра больше нет. Нет! Вы понимаете, что это значит? Вы есть, а их нет! И никогда не будет. Чувствуете ли вы, как опустел мир? Или вам все равно: не одни, мол, Павлито и Гильом Боньяр ушли, мы потеряли многих… Вы можете так думать, а я не могу. Слышите, не могу! Потому что Павлито был для меня…»
Он что, действительно, сходит с ума? Как же после таких мыслей смотреть в глаза Хуану Морадо, Риосу Амайе, Педро Мачо, всем, с кем, может быть, уже завтра он вылетит защищать небо Испании?
«Прости меня, Павлито. Прости меня, Гильом Боньяр… Я знаю, вы осудили бы меня. Но я не виноват… Нет, я виноват… Все это потом пройдет. Мне сейчас просто очень тяжело, поэтому я такой. Я ведь знаю всех этих людей, и это не я думаю о них так… Это моя боль, моя скорбь, моя печаль…»
— Идем, Эстрелья. Мне и вправду надо привести себя в порядок. И мне, и моим друзьям…
1
Весна тысяча девятьсот тридцать восьмого года сеяла в мире тревогу.
Над миром бродили зловещие тучи, и злые ветры гнали их из конца в конец планеты. Одна за другой проносились над землей страшные бури, грохотали грозы, но они не приносили очищения от растекающегося по Европе смрада: фашизм все выше поднимал голову, все громче стучали его сапоги по встревоженной земле.
12 марта гитлеровские войска вторглись в Австрию, подбой барабанов прошли по стране и установили там свой «новый порядок». Закачались на виселицах австрийские патриоты, окраины красавицы-Вены огласились ночными залпами — при свете зажженных факелов фашисты расстреливали всех, кто мешал им творить неправый суд…
Британский премьер-министр Невиль Чемберлен в частной беседе с лордом Галифаксом говорил:
— Этот маньяк теперь занес меч над Чехословакией. Вы понимаете, Эдуард, что теперь будет с Европой?
Он постарался придать своему голосу встревоженные нотки: я, мол, пекусь о том, чтобы фашизм не затопил смрадными волнами нашу старую добрую Европу, вы, надеюсь, понимаете это?
Галифакс, Эдуард Фредерик Вуд, лорд Ирвин, с 1926 по 1931 год занимавший пост вице-короля Индии, прожженный политикан, отлично понимал своего шефа. Тонкая улыбка чуть-тронула его губы. «Перед кем играете, Невиль? — подумал он. — Не вы ли со своей „кливлендской кликой“ в ноябре прошлого года посылали меня к этому маньяку, чтобы прощупать возможность присоединения Англии и Франции к оси Берлин — Рим? На этого маньяка вы готовы молиться всевышнему, лишь бы он повернул на Советскую Россию… Кстати, и я тоже…»
А Невиль Чемберлен продолжал:.
— Вы думаете, он остановится, если даже проглотит Чехословакию?
— Он не остановится до тех пор, — гася улыбку, произнес Галифакс, — пока его не остановят.
Чемберлен засмеялся:
— У него повадки акулы. Не хотел бы я оказаться в его пасти.
Теперь засмеялся и лорд Галифакс:
— Мало приятного. Тем более что в фарватере этой акулы плывет страдающая таким же аппетитом другая. Я имею в виду итальянского дуче. Но… — Галифакс взглянул на Чемберлена, с минуту помолчал и вдруг проговорил: — Гранди рассказывал такой эпизод. Как-то Муссолини попросил папу Пия принять его в Ватикане для исповеди. Тот согласился. А когда процедура исповеди была закончена, они вдвоем в полуночное время прошли в собор, и дуче перед распятием святого Петра поклялся: он не пожалеет жизни, чтобы своими глазами увидеть повешенного его молодчиками Сталина. И не где-нибудь, а в Москве, на Красной площади. Пий будто сказал ему: «Благословляю тебя, сын мой Бенито, на сей великий подвиг…»