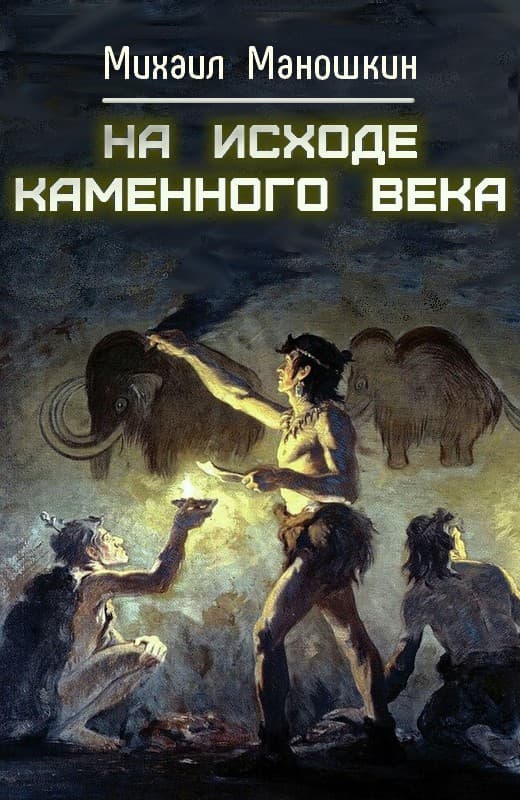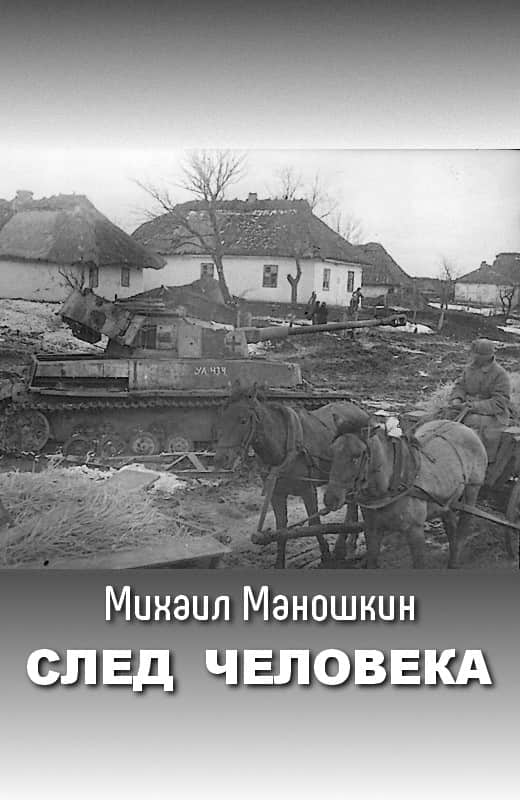Где пехота и где немцы, никто не знал.
Здесь простояли дней десять, изолированные от внешнего мира. Лишь изредка на хутор забредал какой-нибудь ездовой, разыскивая для лошадей корм, — мелькнет, и опять пусто у изб, будто все здесь вымерли. Но тишине сорокапятчики не доверяли: здесь была тихая передовая, и неизвестность угнетала их.
А тем временем в сарае устанавливался свой быт.
Утром главное событие — завтрак. Заметив носильщика с ведром и котелком, часовой оповещал:
— Ложки к бою!
Впрочем, у каждого был свой способ привлекать общее внимание к обеденному ведру. Устюков, до войны работавший на нефтебазе, выражался профессионально:
— На заправку!
Мисюра отличался деликатностью:
— Лопать!
Василь Тимофеич был лишен всякой фантазии:
— Завтрак.
Зато у Камзолова был набор самых неожиданных оборотов, зависящих от его настроения или от того, сколько времени ждали носильщиков.
— Эй, братва, вставай — жратва! — смеялся он, потирая руки от удовольствия. Если ждали дольше обычного, он петушком налетал на носильщиков. — Вас только за смертью посылать!
— Водочки дали! По сто грамм! — сообщил однажды Устюков. Он опустил на землю ведро с супом, другую руку с котелком поднял выше, чтобы все видели: вот она, водочка. Мисюра нес буханку хлеба и завтрак для младшего лейтенанта. Передав Николаеву котелок, он бросил Камзолову хлеб: — Дели.
Недовольство Камзолова бесследно улетучивалось, он привычно брался за топор.
Пока хлеб достигал передовой, горячие, только что из пекарни, буханки превращались в ледяные кирпичи, удобные для транспортировки, но недоступные для ножа. На такой буханке можно было сидеть и стоять — по прочности она не уступала березовой чурке. Каким образом пехотинцы делили хлеб, Крылов не видел, но сорокапятчики благодаря находчивости Камзолова без особого труда расправлялись с хлебной чуркой.
Камзолов зажимал буханку между сошняком и зарядным ящиком и, крякнув, с размаха опускал на нее топор. Расколов буханку на части, он уравнивал их, стесывая острые углы топором. Себе он оставлял мелкие обломки: чувство естественной справедливости не позволяло ему поступить иначе.
Водку тоже разливал он — с точностью до нескольких капель.
«Боевые сто грамм» на передовой были гостем редчайшим. А если они все-таки попадали к своему адресату, они переставали быть ста граммами, превращаясь в восемьдесят, семьдесят, пятьдесят. Тут уж ничего нельзя было поделать. Ста граммов для остывшего на ветру мужчины — это слишком мало, а жаждущих погреться было гораздо больше на пути к передовой, чем на передовой. Солдатским ста граммам лишь изредка удавалось просочиться к пехоте — в тех случаях, когда они уже наполнили фляги осмотрительных старшин и интендантских и штабных поклонников спиртного. Эта маленькая правда войны позже была воспета в песенке о боевых ста граммах, которые под аккомпанемент гитары распивают на дальних подступах к передовой.
Среди сорокапятчиков пьющих оказалось до скандального мало. Камзолов великодушно уступил свою порцию Крылову, который сам намеревался совершить такое же благодеяние по отношению к кому-нибудь. Но так как Камзолов предложил обменную комбинацию, рассчитывая в следующий раз выпить за счет Крылова, тому не оставалось ничего другого, как принять двойную дозу, составившую примерно два с половиной глотка. Василь Тимофеич попробовал спиртное сам, Мисюра выпил из принципа, ну а Устюков — повинуясь естественному желанию, к сожалению, редко удовлетворявшемуся: второй раз сто граммов так и не поступили, и Крылов остался в неоплатном долгу у Камзолова.
Короткий январский день пролетал незаметно. Кто-нибудь из сорокапятчиков отсыпался в блиндаже, другие бодрствовали у костра: пилили и кололи дрова, натаивали в ведре снег, но чаще всего морили вшей.
Для этого выворачивали наизнанку нательные рубахи и, держа их обеими руками, подносили к огню, следя при этом за тем, чтобы не загорелись. От жары вши вздувались и лопались.
Вши, о которых стыдливо-патриотично умалчивали многочисленные авторы военной и послевоенной поры, сопутствовали солдатам на всех фронтовых дорогах, а во время коротких передышек на войне составляли одну из существенных забот ротных старшин и полковых медиков. Вши на войне были так же естественны, как свист пуль и минное пение…
К вечеру сорокапятчики опять собирались вокруг ведра: ели два раза в сутки. Потом наступала ночь, у орудия бодрствовал часовой, остальные засыпали на соломе в блиндаже. Бессонница никого не мучила: и январские ночи казались им недолгими.
* * *
Война полна контрастов: оставив тихий хуторок, сорокапятчики заснеженными дорогами вышли на опушку иссеченного снарядами леса. Немцы будто задались целью снести здесь с лица земли не только людей, но и деревья.
Пехота сменила какую-то другую пехоту, которую, в свою очередь, передвинули на новый участок. Длительное пребывание на одном и том же месте угнетающе действовало на солдат. Следуя на новую позицию, они получали временную передышку, выходили из зоны поражения винтовочно-пулеметным и минометным огнем. Тогда обыкновенная полевая дорога, по которой можно было идти в полный рост, воспринималась ими как надежда на жизнь.
Сорокапятчики не жалели, что покинули хуторок: там их угнетала неизвестность и отсутствие пехотного прикрытия. Теперь они поставили орудие впритык к пехотной траншее около готового блиндажа — пресса неизвестности больше не было. Но появился другой пресс: ожидание артналета. Время от времени немцы обрушивали на опушку леса десятки снарядов, после чего замолкали на неопределенный срок.
Ночами пехоту здесь беспокоил методический обстрел. Через равные промежутки времени доносился хлопок, и вслед за ним на опушке разрывался снаряд. Это длилось часами, иногда всю ночь, а ночные разрывы звучали зловеще. Угнетала сама методичность. Крылову казалось, что очередной снаряд искал именно его.
Такой обстрел начинался вечером, когда передовая затихала, а солдаты ужинали и укладывались спать. Но едва они успевали привыкнуть к тишине, с воем прилетал снаряд. Крылов смотрел на часы, определял временной интервал: следующий снаряд разрывался через пятнадцать минут. Пауза не ослабляла воздействия методического огня: срабатывал эффект неожиданности. Тишина, наступавшая после разрыва, внушала ложную надежду на единичность, случайность орудийного выстрела. Но четверть часа тишины на передовой пролетала незаметно и казалась чем угодно, только не четвертью часа, поэтому новый разрыв был всегда неожидан, всегда «не вовремя». Этот беспокоящий огонь держал в напряжении передовую, когда людям необходима была психологическая разрядка.
Днем не прекращалась артиллерийская дуэль. Немецкий передний край был так же изрыт снарядами, как позиции батальона.
* * *
Отличился Камзолов. Он разглядел впереди замаскированное немецкое орудие.
— И фрицы рядом, копают!.. — возбужденно сообщил он.
Без нужды сорокапятчики не стреляют, не обнаруживают себя, но тут был особый случай. Крылов не забыл смерть Асылова и Омского, гибель расчета Пылаева.
— К орудию! Осколочным… Так! Еще два снаряда. Еще! Хорош.
Немцы ответили яростным артналетом. В тот