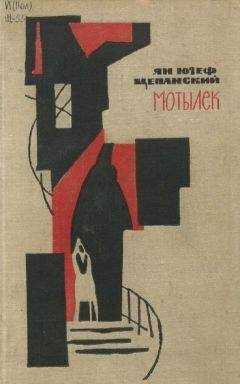— Ксения! Ксения! — кричали они. — Вот так Ксения!
Он отступил к стене, схватил прислоненную к ней тяжелую палку, служащую обычно указкой. О, как кстати эта твердая гладкость дерева в руке! Он страстно хотел причинять боль.
— Хамы! Хамы! — кричал он, метя в увертывающиеся головы и ударял с такой силой, на какую только был способен, не зная, куда попадет. Рев усилился, теперь уже полный ярости и страха. Портфели падали с грохотом, как тяжелые снаряды. Звякнула разбитая чернильница.
Кто-то сзади стал выкручивать ему руки.
— Михал, успокойся! Михал…
Он пытался вырваться, но Збышек был сильнее. Прямо перед ним Юрек дрался с Пинделой, губы и подбородок которого были в крови.
— Ребята, хватит… — сопел Збышек.
Вдруг ни с того, ни с сего их охватила усталость. Отовсюду слышались успокаивающие голоса. Маленький Людвиг, запыхавшийся и взлохмаченный, подошел к Михалу, которого все еще держал Збышек, и протянул руку со скомканными обрывками бумаги.
Класс опустел. Мальчишки с обычным шумом выбежали в коридор. Михал, не разворачивая листка, разорвал его над корзинкой на мелкие кусочки. Гондек добродушно похлопал его по плечу.
— Поди умойся, парень.
В умывальной Пиндела прикладывал мокрый платок к рассеченной губе.
— Что ты ко мне полез? — сказал он. — Это Майхерский у тебя взял, а не я.
— Свиньи вы, — ответил Михал. Но в нем уже не было злости.
Его провожали Юрек и Збышек. С наслаждением они вспоминали подробности боя.
— Ну, брат, ты ему и дал!
— Майхер замахнулся на тебя атласом, а я его как тресну! Он так и рухнул.
Михал сначала молчал, но вскоре и он заговорил о перипетиях баталии, как будто причиной ее была глупость, о которой не стоило вспоминать. Впервые за долгое время он до самого вечера почти не думал о Ксении.
Но когда Михал остался один на своей мансарде, он почувствовал огромную внутреннюю усталость и понял, что все время отчаянным, хотя и неосознанным усилием избегал мысли о ней. Не хотел вспоминать ее имени, ее лица, потому что знал, что оно явится исковерканным, опошленным. И теперь, в одиночестве, ему не хватило сил. В наушниках бренчали мелодии, полные воспоминаний. Мелодии уроков танца. Но от них уже не веяло приятным, призрачным волнением. От них шел резкий болезненный жар, неприятный и вместе с тем чарующий. Каждый нерв, каждый мускул был напряжен, словно по ним проходил ток жестокой и сладкой муки.
Крепко сомкнув веки, Михал, как в горячке, ворочался в постели, полный презрения и ненависти к себе. Он ничего не мог с этим поделать. В темноте роились грубые, непристойные картины. Он бросался к Ксении, насильно обнажал ее, обращался с ней, как с вещью, как с отданным на растерзание врагом. А его пересохший рот с трудом хватал воздух мира, свежесть, туманность и аромат которого были превращены в горячий пепел.
* * *
Теперь об этом знали все. Явность требовала совершенно иного поведения. Гордо поднятая голова, дерзкий взгляд. «Пусть только попробуют что-нибудь сказать!» Это было мучительно, но не лишено очарования. «Я боролся за нее. И каждую минуту готов за нее бороться». Только в присутствии Ксении Михала охватывала робость — иная, чем раньше, как будто он был в чем-то перед ней виноват. Разговаривая или танцуя с ней, он с большим трудом преодолевал свое смущение, которое душило слова, сковывало движения.
— Ты изменился, Михал, — сказала она ему как-то.
— Нет… Почему?
— Ты теперь такой странный.
Он видел в ее глазах что-то, чего никогда до этого не замечал. Заботу, беспокойство, почти страх. До сих пор он знал только ее улыбку. Возможно ли это? Ему казалось, что в их отношениях заинтересован только он. Что она только так, для развлечения позволяет ему себя обожать, но в любой момент может отвернуться от него без сожаления и с такой же улыбкой будет дарить свое внимание Станко, Юреку, Збышеку — кому угодно.
— Разве… — Ксения опустила голову. Они шли по вечерней улице, он провожал ее с урока музыки и нес под мышкой ее ноты. — …разве ты разлюбил меня?
Они прошли несколько шагов в молчании, пока он смог ответить.
— Я люблю тебя все больше. Люблю так, что даже боюсь этого.
* * *
Наступило время карнавала. Для старших классов устраивались вечера — с настоящим оркестром, с буфетом и катильоном. Кроме того, собирались и на домашних вечеринках с патефоном или с участием бренчащих на пианино теток. Далеким казалось время первых танцевальных уроков, неуклюжего шарканья подошвами по паркету, с глазами, уставленными на носки туфель. Теперь танец стал стихией, которая преображала мир. Ритмы были послушны им, недавним молокососам, слышавшим всегда одну и ту же фразу: «Когда вырастешь». Они были послушны ритмам, в которых угадывали освобождение. А упоение недавно достигнутым совершенством отодвигало в сторону все, что не было связано с танцами.
В большинстве домов взрослые гостеприимно принимали их. В гостиной со скатанным ковром, с мебелью, отодвинутой к стене, они пользовались правом завоевателей, как будто это был бивак победоносной танцевальной армии. Если же какая-нибудь заботливая мамаша хотела «ассистировать», они относились к ней с великодушной, немного преувеличенной вежливостью, иногда приглашая на вальс, шутливо делая вид, что не замечают ее принадлежности к побежденному племени. Отцы, вероятно более гордые и менее склонные к капитуляции, вообще избегали показываться на вечеринках.
Жесты примирения с одной и другой стороны выглядели искусственно, потому что никто не говорил о конфликте. Никто, может быть, о нем и не думал. То, что происходило, носило характер явления природы. Но Михал не задумывался над этим. Просто определенные привязанности и интересы утратили для него значение. Просто знакомый ему мир, мир изведанных чувств, перестал казаться ему интересным. Это приводило в повседневной жизни — той, которая продолжалась между танцевальными встречами, — ко многим тревожным ситуациям.
— Здесь кое-что для тебя… — Отец, сидящий глубоко в кресле, отодвинул газету и, наклонив голову, наблюдал из-за очков за сыном быстрыми карими глазами.
Еще не зная, в чем дело, Михал чувствовал рождающееся в нем сопротивление. Этого выжидания в отцовском взгляде, этой его надежды попасть на этот раз в чувствительное место было вполне достаточно, чтобы вызвать замешательство.
— …Доклад о культуре народа майя с диапозитивами.
— Правда?!
И вот щеки Михала запылали, так фальшиво прозвучал этот возглас. Ведь он интересовался культурой этого народа. Ведь отец хотел сделать ему приятное.
Почему вдруг так поблекли руины Юкатана?
— Ну, что? Может быть, пойдем вместе?
— Очень хорошо. — (Но нет, он не смог притворяться перед самим собой. У него не было никакого желания.) — Когда это будет?
Минутная надежда, когда лицо отца скрылось за газетой.
— В четверг в пять.
— Как жалко! В четверг мы собираемся потанцевать у Терезы.
— О да, это действительно серьезная причина.
Михал выскользнул из комнаты. Он был обижен на отца за свой стыд и за насмешку, таящуюся в его снисходительной улыбке. Моника была проще в своих реакциях. Поэтому между ней и матерью часто вспыхивали бурные сцены. Причины были преимущественно пустяковые, но обе стороны быстро теряли равновесие, в глубине души зная, что речь идет совсем о другом. А начиналось все это с какой-нибудь чепухи — та или иная прическа или воротничок, теплые рейтузы или простые толстые чулки.
— Потому что ты меня не понимаешь, не понимаешь! — кричала Моника.
— Не ори. Мне тоже когда-то было столько, сколько тебе.
— Да, но это было в девятнадцатом веке!
На лице матери появлялись красные пятна.
— Хорошо, делай как хочешь. Я не желаю выслушивать твои дерзости. Когда-нибудь, когда меня уже не будет, ты вспомнишь эти глупые скандалы и тебе будет стыдно.
Моника разражалась рыданиями.
— Ну что ты опять воешь?
— Потому что, мамуся, ты так трагично…
«Трагично» — это было очень широкое понятие. Оно означало: «серо», «слезливо», «скучно», «серьезно» и попросту «старомодно». В нем была выражена вся противоположность того упругого, веселого и полного соблазнов мира, в который вводили их ритмы барабанов, гнусавые завывания саксофона, соблазнительно вздрагивающие ноги. Не успевал улетучиться аромат одной вечеринки, как начинало нарастать напряжение нового ожидания. У Терезы, у Збышека, у Ксении…
Из-за белых дверей Ксениной квартиры уже доносились голоса ранних гостей, сливающиеся с неясным хрипением патефона. Когда им открыли, там гудело, как в улье. Все выбежали их встречать. Ксения была в розовом платье, смеющаяся и грациозная. Михал захлебнулся запахом — тем удивительным запахом, который здесь был настолько сильный, что почти раздражал его. Мать Ксении посмотрела на него внимательно, когда он коснулся губами ее холодной, костлявой руки. Она была высокая и худая, с серым лицом и такими же бесцветными, словно увядшими, волосами. В ней было что-то тревожащее, что-то чего он хотел бы не видеть. Но напрасно он пытался отогнать от себя это впечатление. Слишком велико было сходство с дочерью. Это подобие Ксении, лишенное ее свежести, красок, улыбки (подлинное ли?), на какое-то мгновение испугало его. К счастью, серая фигура сразу же исчезла, но, переступая порог завешанных портьерами дверей, еще раз остановилась и, вытянув вперед руки, сделала два сухих хлопка.