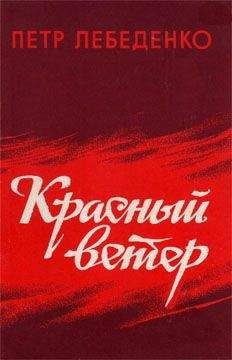Ты, конечно, спросишь: „Значит, все-таки страшно?“ И я отвечу: „Да. Страшно…“ Откуда я знаю, какие нервы у немецкого летчика, тоже никуда не сворачивающего и, по всему видно, не собирающегося маневрировать? Может ведь так быть, что фашист давно уже набил руку на лобовых атаках и сейчас ожидает, когда я дрогну и отверну.
Да, дорогая Полинка, страшно вот с такой бешеной скоростью нестись навстречу своей смерти. Ведь пройдет несколько мгновений и, если никто из нас не уступит — мы столкнемся, мы, наверно, не успеем даже осознать, что от нас ничего не останется.
Но страх и трусость, Полинка, это совсем разные вещи. Думаешь, когда солдат в бою закрывает собой командира, он не испытывает страха? Или когда летчик, самолет которого подбит над территорией противника, уверен, что до своих ему не дотянуть, ищет солидную цель, чтобы сбросить на нее свою машину и погибнуть, не чувствует, как все в нем кричит от боли, потому что ему не хочется умирать?
Но и солдат и летчик, хотя и испытывают смертный страх, сделают свое дело, трус же никогда на заведомую гибель не решится. „Страх, — как говорит наш комиссар, — это естественное человеческое чувство, нормальный человек от него не застрахован, трусость же — это родная и кровная сестра подлости…“
Вот я опять отвлекся, но это потому, что мне все время хочется делиться с тобой своими мыслями, хочется делиться всем тем, чем я и мои друзья живем здесь, на фронте. Пишу тебе, а кажется, будто я сижу с тобой рядом, держу твои руки в своих руках и неторопливо обо всем рассказываю, а за окном нашего сибирского домика уже во всю шагает осень, по улицам вьюжат опавшие с деревьев листья, галдят собравшиеся улетать в теплые края грачи, а из кухни доносятся запахи поджариваемого Марфой Ивановной тетерева, и так нам с тобой уютно и хорошо, что и сказать об этом не скажешь. Но я, конечно, понимаю, ты с нетерпением ожидаешь продолжения моего рассказа о том, чем закончился наш бой с немецким летчиком.
Денисио и вправду хорошо изучил волчьи повадки фашистов. Наглые они беспредельно, когда двое или трое идут на одного нашего. Но в этот раз, хотя вокруг вертелась карусель боя, мы шли с ним один на один; ни я, да, наверно, и он ничего другого не замечали, нам обоим казалось, будто во всем небе нас только двое, до крайности озверевших человека с натянутыми, как струны, нервами, следящих друг за другом даже не глазами, а каждой нервной клеточкой.
Я-то твердо знал, что не отверну, но я не знал, как поступит немец. Если он тоже будет продолжать лететь тем же курсом, значит, через секунду-другую мы оба перестанем существовать.
Наверное, вначале я не увидел, а скорее почувствовал шестым, или еще каким-то там чувством, что фриц дрогнул, не выдержал, он еще ничего не сделал такого, чтобы я мог чему-то порадоваться, но будто какие-то невидимые токи с невиданной скоростью долетели от него до меня, и эти токи сказали мне о многом. И он взял ручку управления на себя, и его машина рванула вверх, едва не протаранив брюхом мой фонарь. Но я ведь ожидал этого с самого начала. Я, конечно, не знал, что именно фриц сделает: отвернет ли в сторону, заложит ли машину в пикирование или начнет уходить вверх, но ведь я поставил все на карту ради того, чтобы дождаться какого-нибудь маневра. И как только я увидел этот маневр, я тут же выпусти по брюху „мессера“ длинную очередь и, хотя глазами не успел проследить, что там с фрицем, у меня не осталось сомнений, с ним все кончено.
Так оно и было. Оглянувшись, я увидел падающий на землю клуб огня и дыма и тут только ощутил, что напряжение этих последних секунд вымотало меня до конца, и я не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, веки мои сами по себе опускались, во всем теле страшная пустота, а в голове — ни одной мысли.
Но это продолжалось недолго. Сбросив с себя оцепенение (другими словами такое состояние не назовешь), я осмотрелся вокруг. Карусель боя вертелась теперь далеко в стороне, из самого центра ее вдруг вывалился и пошел, объятый пламенем, „Ю-88“, а метрах в пятнадцати от него падал, таща за собой хвост черного дыма, наш „ишачок“. Мне показалось, будто это падает Микола Череда, но тут же услыхал его голос (вроде далекий, донесшийся к моему шлемофону чуть ли не из космоса):
— Я доконал его, командир! Каюк ему, говнюку!
И тут же в ответ Миколе:
— Выраженьица, Череда!!
Это командир нашей эскадрильи Булатов. Летчик — дай боже каждому таким быть! — он был по-настоящему интеллигентным человеком, и даже в бою не терпел разных вот таких „выраженьиц“, какими бы безобидными они ни были.
Потом Булатов спросил у Череды:
— Где твой ведомый?
Микола ответил:
— Федор Ивлев? Парень что надо. На моих глазах срубил одного „юнкерса“, а только сейчас отправил в царствие небесное фрица в „мессере“. Порядок, командир!
Бой затихал. Неожиданно-негаданно к нам на помощь пришла вторая эскадрилья нашего полка, с ходу ввязалась в драку, бомбардировщики начали сбрасывать бомбы куда попало, и уходить. А за ними — и „мессеры“. Покружившись над Белопольем несколько минут, Булатов дал команду и нам возвращаться на базу.
Вот так, Полинка, в одном бою мне удалось сбить два немецких самолета. На земле меня поздравляли, и радость моя была бы безграничной, если бы она ничем не была омрачена: в этом бою мы потеряла троих своих друзей. Погибли лейтенант Ивушкин, младший лейтенант Любовицкий и лейтенант Шагалов. Вечером выпили мы за их светлую память, да только на душе от этого не стало легче…
Хотел продолжить письмо и рассказать, как я срубил и третьего фрица, но слышу, как Микола Череда кричит: „Федор! Федор Ивлев!“
Это, наверняка, значит, что опять надо вылетать. Прилечу — закончу письмо…
… Уже поздний вечер, я сижу рядом с фронтовой коптилкой и продолжаю писать тебе неоконченное накануне письмо.
После того боя, где мне удалось сбить два немецких самолета, прошло четыре дня. Наши войска вдруг выбили немцев из нескольких населенных пунктов и отогнали их километров на двадцать пять на запад. Я не случайно употребил слова „вдруг выбили“, потому что для нас это было полной неожиданностью: мы ведь все время отступали, и никто не думал, что в ближайшее время не только остановим немцев, но — и хотя и не настолько, как хотелось бы, еще и отгоним их назад.
Мы сразу же всей эскадрильей перелетели поближе к фронту (радовались, как дети: теперь, мол, наши погонят фрицев без остановки, перелом, мол, наступил и сам черт нам не брат. Не думали-не гадали, что не пройдет и недели, как немцы снова двинут свои войска в наступление, и оно будет намного мощнее, чем прежние; и мы опять покатимся назад, оставляя свои города, села и деревни), и тут, в небольшой деревеньке, где нас расквартировали, я впервые увидел, что оставляют после себя фашисты.
Большую половину деревеньки они сожгли, все разграбили (тащили даже подушки, одеяла, детскую одежонку, все, что попадало под руку), забрали у крестьян последнюю картошку, муку, повыловили всех кур, не говоря уже о свиньях и коровах. На улице — пристреленные собаки, на маленькой площади — виселица, и рядом с ней — снятые, но еще не убранные жителями, тела трех мужчин и одной девушки, почти девочки, на шее которой дощечка: „Комсомолка“.
Страшная картина, дорогая Полинка, и я невольно подумал: „Не раз мы слышали по радио о зверствах немцев, но все как-то не верилось, не доходило до сознания. Думалось так: „Многое, наверное, преувеличено, сгущено, может быть для того, чтобы мы еще яростнее их ненавидели и не давали никакой пощады…“ А вот когда увидал все своими глазами. Трудно даже передать, какие чувства я испытал. Это была даже не просто ненависть, а что-то более сильное, от чего хотелось кричать, по-волчьи выть, скрежетать зубами“.
Мы стояли с Миколой Чередой у этой проклятой виселицы и никак не могли уйти от этого страшного зрелища, как будто какая-то неведомая сила удерживала нас; но вот подъехала телега, трое стариков бережно положили в нее трупы, делали они все это молча, угрюмо, на нас даже ни разу не взглянув, словно и мы были в чем-то виноваты. Потом один из них сказал: — Трогай, Ульян.
Скрепя несмазанными, разбитыми колесами, телега покатила к недалекому кладбищу, а к нам подошла пожилая женщина и глухо заговорила:
— Идите за мной. Определю вас на ночевку.
Она была закутана в старую дырявую шаль, закутана так, что оставались видными лишь ее глаза, странные глаза, Полинка, я таких еще никогда не видел. Они не казались ни жесткими, ни печальными, когда-то они, наверно, были темными, но сейчас выглядели совершенно бесцветными и сухими.
Ни разу не оглянувшись, она пошла вперед, а мы, чуть поотстав, тронулись за ней, и я спросил у Миколы:
— Ты заметил, какие у нее глаза?
Микола коротко ответил:
— Да она все выплакала.
Между тем женщина привела нас к деревянному домишке, отбросила крючок и, открыв дверь, сказала: