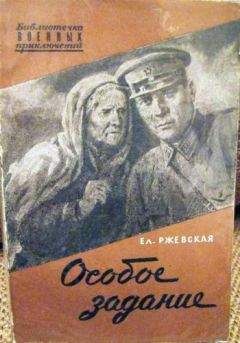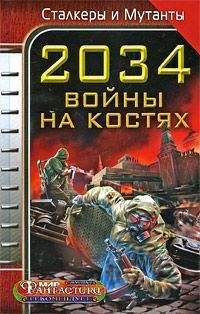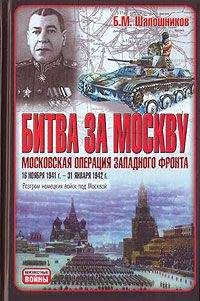Я знал, что близко село. И хотя меня тянуло к теплому очагу, хотелось выпить стакан, малинового чая, но заходить в незнакомую деревню без соответствующей разведки было опасно. Вскоре я продрог так, что у меня стали неметь конечности, и решил все-таки пробраться в отдельный сарай или баньку, которые нередко ютятся на отшибе.
Казалось, что тертому, битому — опыта не занимать. Но... Нелегко было шагать в темноте по раскисшей дороге, когда ноги то увязают в грязи, то скользят, разъезжаются в промокших чулках, как на смазанных лыжах. Перебитая в локтевом суставе рука не разгибалась, и равновесие было держать нелегко: я то и дело падал в грязь. С великим трудом, опираясь на одну руку, поднимался из переполненной водой колеи и опять упорно брел, спотыкаясь на каждом шагу. Не знаю, какое я одолел расстояние, как вдруг почти рядом раздался в темноте раскатистый смех и слова песни на чужом языке. Я вздрогнул и замер на месте. Простояв в оцепенении несколько секунд, круто повернул обратно и зашагал по грязи, чутко прислушиваясь к чужим словам песни, к частым толчкам своего сердца. Сознание заработало четко: «О нашем побеге наверняка уведомлены не только близкие к городу гарнизоны противника... Но куда идти?»
Я решил обойти занятую противником деревню и поискать другую, где нет фашистов.
Сыро, грязно, темно, и что ни шаг — то лужа воды. Хоть бы звездочка какая выглянула!..
По обеим сторонам дороги стояла высокая рожь. «Она меня и укроет»,— подумалось мне. Свернув с колеи, я, как в студеную воду, окунулся в густюшее намокшее жито, совсем не подозревая, что мне придется вытерпеть. Сгоряча прошел сотню метров и только тут почувствовал боль в ногах и быстро сообразил, что от моих чулочков могут остаться лишь одни лоскутки. Садиться и надевать ботинки на распухшую ногу? Об этом даже думать было страшно. Пошел вперед напропалую. Но чем дальше, тем было труднее. В глубине поля рожь полегла, перепуталась. Я никогда в жизни не испытывал таких мучений, как в ту ночь, когда продирался через это, казалось, бесконечное поле поваленной ржи.
Наконец-то выбрался на проселочную дорогу. Куда она вела, я не знал и брел тихонько, держа ориентир на редкий собачий лай. Стучать в хату я не собирался. Спустившись в небольшую лощинку, почувствовал под ногами стерню — знать, где-то близко сено. И действительно, поднявшись на пригорок, увидел в темноте сарай. Это был самый великий дар той сверхужасной ночи.
Когда я вошел внутрь, то почему-то поверил, что спасен. Левая от входа сторона сарая была заполнена душистым сеном. Выдернув мягкую охапку, я сел на нее. От сухих трав шло то самое райское тепло, к которому я привык с детства, а потом на службе в кавалерии, когда устало валился в заполненный сеном станок.
Подавив томительное желание покурить, я развязал вещевой мешок и с отвращением заставил себя поесть мокрого хлебного месива, залез на верх сеновала, зарылся глубоко, согрелся и заснул. Я был так измотан, что, наверное, проспал бы долго, если бы не услышал сквозь сон женский голос:
— Осторожно, гляди не зацепи...
— Ничего. Прошла,— раздался в ответ более звучный и молодой голос.
Две женщины, видимо хозяйки этого сарая, вкатили скрипучую телегу и начали брать вилами сено. Из их разговора я понял, что это мать и дочь, которым староста велел сегодня же сдать воз сена по заготовкам.
— Нагребем ли столько? — спросила молодая.
— Уж сколько будет. Где взять-то сухого?
Мне было нетрудно определить, что сено выгребут до последней охапки вместе со мной. В аховом оказался я положении. Выйти к ним — испугаются, поднимут шум. Грязный, небритый, я своим видом мог напугать кого угодно. Вскоре из разговора матери с дочерью я понял, что вчера вечером к ним в поселок прибыла воинская часть и встала на постой. Фашисты заставили жителей истопить баню, мылись и до поздней ночи стирали свое белье. Тихо разговаривая, женщины обменивались впечатлениями о том, как гитлеровские солдаты гонялись за курами и поросятами, как пристрелили привязанного теленка.
Вилы уже совсем рядом вспарывали мягкое, пышное сено, а я все еще не решался пошевелиться, заговорить. И когда железные острые концы почти нащупали мой бок, как можно тише и спокойнее подал голос:
— Хозяюшка! Осторожно! Не бойтесь живого человека.
— Ой, мама!— вскрикнула дивчина и отдернула вилы.
— Кто там, господи!— спросила мать.
— Раненый, мамаша!— ответил я и, раздвинув сено, поднялся.
— Господи боже ж мой!— повторила пожилая, стоявшая на возу женщина.— Откуда вы, родимый? Ох, горе горькое!
Я решил не лукавить. Слово «родимый» обдало материнским теплом.
— Бежал от немцев.
— Может, это вас...
— Погоди, мама, погоди,— прервала ее дочь.— Вы, наверное, голодный?
— Спасибо. Сами понимаете...
Меня трясло. Обмундирование было еще сырым, раны горели, особенно на ноге. Зуб на зуб не попадал. Поняв мое состояние, хозяйка сказала дочери:
— Беги, Настенька, и принеси поесть. Я сведу его в баню. Она еще совсем теплая.
Настенька воткнула вилы в сено и, стряхнув с рябенького сарафана сенную труху, возразила матери:
— В баню нельзя. Вдруг немчура проснется и опять задумает делать постирушку...
— И то правда. Чтоб их леший забрал!.. Ой, какой же ты намоченный!— всплеснув руками, запричитала женщина.— Уж так, поди, тебя дождик-то нахлестал!
— Насквозь промок.
— Такой улил, да с громом! Ты посиди тут, а я из бани ведерко воды принесу, солью тебе, хоть помоешься маленько. Когда же все это кончится, господи! Может, и наши где-нибудь вот так же бедствуют...
— А где же они?— спросил я.
— Да с первых дней на фронте, где же еще? Сына сразу взяли, а хозяин тоже вослед подался. Не схотел тут оставаться. Я мигом, сынок!
Она скоро вернулась, принесла в бадейке теплой воды, кусок мыла, слила мне на левую ладонь. Я кое-как умылся, вытерся рукавом.
— Не догадалась я сказать Насте, чтобы рушник захватила. Ты мыло забери. Отверни ворот-то, я и на шею чуток солью... И как ты только не пропал!
От хозяйки я узнал, что название их деревни Марьино, что стоит она не так уж далеко от Смоленска.
Настя вскоре принесла хлеба, вареной картошки, горшок холодного молока, несколько корней самосада с сухими листьями и коробку спичек. Я сначала покурил, а уж потом принялся за еду. Пока ел, Настя толково объяснила, где и каким путем мне надо идти.
— Только не на Катынь. Там немцев видимо-невидимо,— снова услышал я предупреждение.
Пожилая хозяйка вздохнула.
— Могли бы и у нас тут передохнуть, если бы не энти банщики вшивые...
— Они ищут кого-то,— заметила Настя.— Говорят, из города полста наших удрали. Старосту весь вечер спытывали: не видел ли кого, мол...
Задерживаться у этих добрых людей мне было никак нельзя. Беда могла случиться не только со мной, но и с ними.
Кое-как я надел ботинки. Видя, что долго копаюсь со шнурками, Настя помогла их зашнуровать и умело завязала прочный узелок. Неловко было принимать помощь молодо девушки, но я мало что умел делать одной рукой: правая не гнулась в локте, и пальцы были скрючены в щепотку.
Горячо поблагодарив женщин за помощь, я попрощался с ними и с небольшим запасом хлеба, табака и спичек в мешке, с полной фляжкой молока направился к указанной Настей лощинке. Оттуда уже без особого труда добрался до молодого смешанного лесочка.
По всем признакам, тут много было малины, но я решил со сбором ягод погодить и сначала привести себя в порядок. Выбрав небольшую, уютную солнечную полянку, прежде всего разулся и распеленал ногу. Присыпал рану ксероформом и мысленно поблагодарил Катю Рыбакову за ее предусмотрительность. Сняв с себя одежду, развесил по кустам совсем еще сырые ватные брюки, гимнастерку, растянул на ветках снятый с ноги бинт. Раненую руку трогать не стал — все там крепко присохло, а забинтовать так же ловко, как это сделала Катя, я бы не сумел.
Хорошо бы погреться на солнышке после вчерашнего ливня и сырой ночи. Я сидел на старом березовом пеньке и не переставал думать о моих товарищах по лагерю. Куда они подались? Где их застала непогода? Никак не мог погасить внутреннюю тревогу за них.
Подсушив на солнце листья табака, искрошил мелко ножом и накурился вдоволь. Не отходя далеко, собрал малину и высыпал на разостланный для просушки вещевой мешок. Я решил пробыть здесь весь день и хорошенько отдохнуть. Сняв нижнюю рубаху, подставил спину горячему солнцу. Оно приятно грело и щекотало совсем недавно зажившую на спине рану. Меня разморило, стало клонить ко сну. Но спать нельзя — мало ли кто мог появиться. И в самом деле, сквозь расслабляющую дремоту я вскоре услышал детские голоса. Ребятишки-ягодники так быстро приблизились, что едва успел надеть рубаху, стеганые брюки, как кусты раздвинулись, и, держась за ветки молодой березки, передо мной замерли с разинутыми ртами двое пацанов. Один лет девяти, другой вдвое младше...