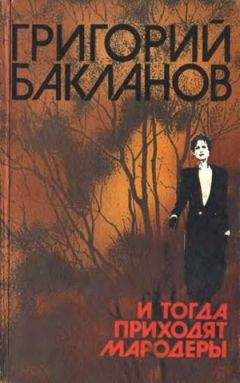У Лели на работе почему-то никто не отвечал. Я глянул на часы обеденный перерыв. Я шел по направлению к дому от автомата к автомату. Парило перед грозой. Вся эта влажность от многих дождей подымалась вверх, а тучи плотно и низко повисли над крышами, ей некуда было подниматься. В кабинах автоматов как в бане, я не закрывал за собой дверь и все равно выходил, вытирая шею.
Наконец телефон ожил. Но Лели нет. Уехала. Взяла отгулы и уехала на Соловки. Что за странная идея — ехать в бывшие ссыльные места любоваться красотами монастыря? На Лелю не похоже. Или это пошутили. «На Соловки…» Для меня не может быть красоты там, где при моей жизни мучились люди, я не могу в нашем языке слышать слово «акция», которое теперь употре-бляется по всякому поводу — у немцев словом «акция» обозначались массовые уничтожения людей. И я никогда не заведу у себя в доме немецкую овчарку.
Видимо, есть процессы, которые неостановимы. И масса одиноких женщин устремляется в экскурсии, лазают по горам, осматривают какие-то развалины… Главное, Леля ведь знала, когда я возвращаюсь. Может быть, нарочно выбрала это время?
Ливень хлынул, когда я уже был в троллейбусе. На остановках разъезжались двери-гармош-ки, и под сплошным потоком воды люди впрыгивали в троллейбус, начинали отряхиваться, пахло сырой одеждой, окна от испарений запотевали изнутри сильней.
И все время, пока мы ехали, то обгонял нас, то отставал, то вновь оказывался за стеклом грузовик с высокими бортами, нашитыми из досок. В его кузове везли под дождем коров на бойню. Когда весь транспорт останавливался у светофора, они просовывали слюнявые морды между досками, оттуда подолгу глядели коровьи глаза. А в троллейбусах, в машинах, в автобусах — вровень с ними, ниже их — сидели люди, которые будут их есть. И у женщины рядом со мной из хозяйственной сумки на коленях торчали толстые вареные колбасы.
Вдруг я подумал: может быть, не в красотах монастыря дело, может быть, кто-то в этой экскурсии интересует Лелю?
Наверное, лучше не иметь этого свойства — я на расстоянии предчувствую беду.
Последние исследования в области загадочного феномена — способности животных угады-вать землетрясение — родили очередную гипотезу. Суть ее в том, что будто бы перед землетря-сением в воздухе появляются в большом количестве положительно заряженные частицы — аэрозоли. Они заряжают животных электричеством, что и становится причиной паники и страха. А поскольку в закрытых помещениях концентрация аэрозолей в тысячи раз больше, животные в жутком страхе рвутся наружу. Все просто, логично и стройно.
Но в том-то беда, что в науке легче и логичней всего выстраивается то, что основано не на достоверных знаниях, а на догадках. Появляется потом один-единственный факт, не замеченный или никем не оцененный ранее, и прекрасное, стройное сооружение, в котором уже мебель расставляли по местам, рушится. Например, я мог бы задать вопрос: почему же эти аэрозоли, так вовремя заряжающие животных, совершенно не действуют на людей и люди в закрытых помеще-ниях беспечно ждут, пока потолок рухнет им на голову? Неужели мы настолько отдалились от животных, что даже этой общности не осталось? Если судить по науке, которой я занят, по истории рода человеческого, вспомнить хоть часть безумств и зверств, которые совершались и совершаются людьми, ей-богу, не скажешь этого. Словом, я мог бы задать целый ряд вопросов создателям новой гипотезы, но интересует меня сейчас совсем другое — моя несчастная способ-ность предчувствовать беду. Она какими аэрозолями вызывается?
Вот я вернулся домой, запах острых закусок встречает меня еще в передней, я вижу под вешалкой ботинки сына, слышу веселые голоса на кухне, жена через всю квартиру кричит, что к нам пришел сын. Теперь это бывает не часто, и для нас это всегда праздник. Действительно, сын выходит ко мне навстречу, очень родственный, загорелый, в больших прямоугольных очках. Он вернулся из экспедиции, со своих раскопок, и как всегда после жизни в поле, вид у него поздоро-вевший, и даже не кажется, что эти очки слишком большие на его узком лице. Мать, возбужденная его приходом, видом и запахом острой еды, которую она смешивает в миске, отворачиваясь и плача от лука, говорит без умолку. Все трое, как когда-то, когда это и была вся наша семья, мы садимся на кухне ужинать.
— Ты посмотри, что со мной делается! — с живостью девочки, а не пятидесятипятилетней женщины то и дело вскакивает Кира, поворачиваясь перед сыном, показывая себя со всех сторон. — Куда я теперь все это дену?
И она ладонями беспомощно пытается умять бедра — она несколько поправилась на юге.
— Правда, отец похудел? Я гоняла его по горам вверх-вниз, вверх-вниз. Ты не поверишь, какие он у меня совершал восхождения?
Все хорошо, все прекрасно, откуда во мне тревога?
Повязавшись передником поверх брюк, вся вот такая спортивная, Кира становится у мойки мыть посуду, а мы с сыном идем в кабинет смотреть новые книги и играть в шахматы.
На юге я действительно отдохнул. Я почувствовал это уже на третьей неделе, когда мне захотелось работать, я кое-что там писал, и теперь надо проверить по архивам некоторые пришед-шие мне мысли. Жизнь моя в последние месяцы перед отпуском представилась оттуда сплошной бессмысленной гонкой, ужасной растратой времени, сил и нервов. И я дал себе слово: больше это не повторится. Я немолод, я должен делать то единственное, что я могу, к чему призван. Ведь это счастье, когда человек делает то, к чему у него душа лежит.
Мы с сыном садимся играть в шахматы, но играем невнимательно, мысль занята другим. Пытаясь отдалить момент, я начинаю рассказывать о своей работе, чего не делаю никогда. В наших беседах с сыном установился некий ироничный тон все понимающих, все понявших людей — создается видимость общения, при этом можно не говорить о главном. Но сейчас я рассказы-ваю ему то, что меня действительно интересует: насколько гетерогенные, то есть непредвиденные, последствия оказались значительней и необратимей замыслов людей, которые стояли перед войной во главе стран и народов, считали себя вершителями судеб. Как именно по непредвиден-ным последствиям, а не по замыслам, знание которых всегда недостоверно, мы можем сегодня судить, насколько эти высоко стоявшие люди оказались меньше событий, развязанных при их участии или попустительстве. Я начинаю приводить примеры, увлекаюсь, сын вяло, без интереса говорит мне:
— Думаешь, это нужно кому-то? Интеллигенция — это тоненькая пленка на воде, едва заметная глазом. Не обижайся, твои открытия нужны главным образом тебе самому.
— Ты так считаешь?
— И то, что я делаю, тоже. Сколько есть прекрасных исторических исследований. Кого они вразумили? Верят предсказателям. Сейчас в этой роли точные науки. Им верят — они предскажут судьбу. Легенды нужны народам. Чем невероятней легенда, тем охотней верят в нее. Кого ты видишь? Студенты, профессора… Ты спроси у нас на раскопках, на стройке спроси работяг, что они про вас думают, про «научников»? Платят вам хорошо, вот и придумали себе занятие в кабинетах, не вкалывать на морозе.
Он зевнул, снял очки, откинувшись, протирает их платком.
— А ты — правду добыть… Просветлеет от нее? Верующий по природе слеп. Он и в ночи свет видит, а фонарь поднеси к глазам — не заметит.
Как в самолете, когда проваливаешься в воздушную яму, у меня подкатило к душе и оборвалось: вот оно, сейчас будет сказано то, чего я боялся.
Сын взял ладью с доски, трогает пальцами оторвавшийся суконный кружок.
— Вообще-то все дело в том… — Он близко поднес ладью к глазам, рассматривает из-под очков. Поставил на доску, опустил очки и сразу отдалился. — Дело в том, что я и моя жена решили разойтись. Мы расходимся, одним словом.
Наверное, страх, растерянность, беспомощность отразились на моем лице, потому что сын улыбнулся болезненно.
— От тебя ничего не потребуется, ничего не надо делать. Просто я ставлю тебя в извест-ность. И маме скажи. А в общем, как знаешь. — Ну что ж, этого следовало ожидать.
Он взглянул на меня:
— Ты всегда ее не любил, я знаю.
— Любил, не любил…
Пару лет назад в солнечный весенний день я встретил его жену на улице Горького с моло-дым мужчиной спортивного типа. Она быстро шла с ним от Елисеевского магазина к площади Пушкина. Ни о чем не надо было спрашивать, достаточно было видеть ее нетерпение, видеть рядом с ее спешащими ногами сильные икры его ног в узких брюках, обтянутые ягодицы, эту походку мужчины, которого ведут, — на три быстрых ее шага один его ленивый шаг. Она увидела меня на другой стороне улицы, видела, что я вижу их, и не только не смутилась, не скрылась, не сделала даже вида, наоборот, открыто, весело, нагло улыбнулась и помахала мне. И что-то ему сказала, он посмотрел лениво. Она была совершенно уверена, что я не расскажу, она смеялась надо мной. И я не рассказал ни сыну, ни жене. А что я мог рассказать? Что видел ее днем на улице с мужчиной? И все? Но я видел, как они шли, я видел их лица. И после этого мы принимали ее.