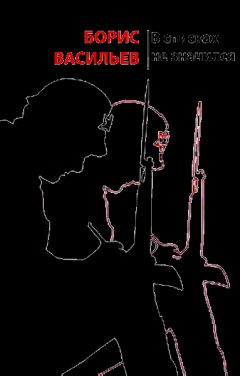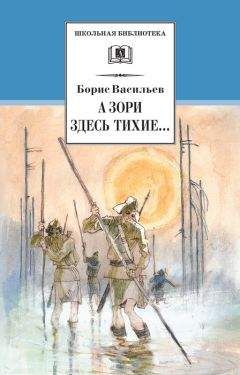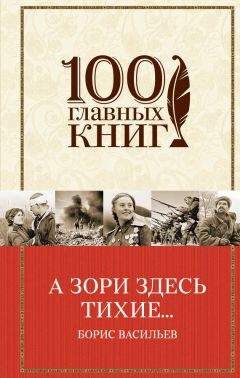— В укрытие! — кричал Плужников сержанту, все еще лежавшему у дверного пролома. — В укрытие, слышите?..
Удушливая волна ударила в разинутый рот. Плужников мучительно закашлялся, протер запорошенные пылью глаза. От взрывов тяжело вздрагивала земля, ходуном ходили толстые стены костела.
— Сержант!.. Сержант, в укрытие!..
— Пулемет!.. — надсадно прокричал сержант. — Пулемет бросили! От дурни!..
Пригнувшись, он бросился из костела под бомбежку. Плужников хотел закричать, и снова тугая вонючая волна горячего воздуха перехватила дыхание. Задыхаясь, он осторожно выглянул.
Низко пригнувшись, сержант бежал среди взрывов и пыли. Грудью падал в воронки, в миг скрываясь, выныривал и снова бежал. Плужников видел, как он добрался до лежащего на боку станкового пулемета, как стащил его вниз, в воронку, но тут вновь где-то совсем близко разорвалась бомба. Плужников поспешно присел, а когда отзвенели осколки, выглянул снова, но уже ничего не мог разобрать в сплошной завесе дыма и пыли.
— Накрыло! — кричал Сальников, и Плужников скорее угадывал, чем слышал его слова. — По нем жахнуло! Одни пуговицы остались!..
Новая серия бомб просвистела над головой, ударила, качнув могучие стены костела. Плужников упал на пол, скорчился, зажимая уши. Протяжный свист и грохот тяжко давили на плечи, рядом вздрагивал Сальников.
Вдруг стало тихо, только медленно рассасывался противный звон в ушах. Тяжело ревели моторы низко круживших бомбардировщиков, но ни взрывов, ни надсаживающего душу свиста бомб больше не слышалось. Плужников поправил сползающую на лоб каску и осмотрелся.
Сквозь дым и пыль кровавым пятном просвечивало солнце. И больше Плужников ничего не увидел, даже контуров ближних зданий. Рядом, толкаясь, пристраивался Сальников.
— Повзрывали все, что ли?
— Все взорвать не могли. — Плужников тряс головой, чтобы унять застрявший в ушах звон. — Долго бомбили, не знаешь?
— Долго, — сказал Сальников. — Бомбят всегда долго. Глядите: сержант!
В тяжелой завесе дыма и пыли показался сержант: он катил пулемет. За ним бежал боец, волоча коробки с лентами.
— Целы? — спросил Плужников, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемет в костел.
— Мы-то целы, — сказал сержант. — А одного дурня убило. Разве ж можно — под бомбами…
— Хороший был пулеметчик, — вздохнул боец, что нес ленты.
— Товарищ лейтенант! — гулко окликнули из глубины. — Тут гражданские!
К ним шли бойцы и среди них — три женщины. Молодая была в белом, сильно испачканном кирпичной пылью лифчике, и Плужников, нахмурившись, сразу отвел глаза.
— Кто такие? Откуда?
— Здешние мы, здешние, — торопливо закивала старшая. — Как стрелять начали, так мы сюда.
— Они говорят, немцы в подвалах, — оказал смуглый пограничник — тот, что был вторым номером у ручного пулемета. — Вроде мимо них пробежали. Надо бы подвалы осмотреть, а?
— Правильно, — согласился Плужников и посмотрел на сержанта, что стоял на коленях возле станкового пулемета.
— Ступайте, — сказал сержант, не оглядываясь. — Мне пулеметик почистить треба.
— Ага. — Плужников потоптался, добавил неуверенно: — Остаетесь тут за меня.
— Вы в темноту-то не очень суйтесь, — сказал сержант. — Шуруйте гранатами.
— Взять гранаты. — Плужников поднял лежавшую у стены ручную гранату с непривычно длинной ручкой. — Шесть человек — за мной.
Бойцы молча разобрали сложенные у стены гранаты. Плужников снова покосился на женщину в испачканном лифчике, снова отвел глаза и сказал:
— Укройтесь чем-нибудь. Сквозняк. Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. Круглоголовый остряк сказал:
— Там на столе — скатерка красная. Может, дать ей? И побежал за скатеркой, не дожидаясь приказа.
— Ведите в подвалы, — сказал Плужников пограничнику.
Лестница была темной, узкой и настолько крутой, что Плужников то и дело оступался, всякий раз хватаясь за плечи идущего впереди пограничника. Пограничник недовольно поводил плечами, но молчал.
С каждым шагом все тише доносился рев немецких бомбардировщиков, и частые выстрелы, что начались сразу после бомбежки в районе Тереспольских ворот. И чем тише звучали эти далекие шумы, тем все отчетливее и звонче делался грохот их сапог.
— Шумим больно, — тихо сказал Сальников. — А они как жахнут на шум…
— Тут они и сидели, женщины эти, — сказал пограничник, останавливаясь. — Дальше я не ходил.
— Тише, — сказал Плужников. — Послушаем. Все замерли, придержав дыхание. Где-то далеко-далеко звучали выстрелы, и звуки их были здесь совсем не страшными, как в кино. Глаза постепенно привыкали к мраку: медленно прорисовывались темные своды, черные провалы ведущих куда-то коридоров, светлые пятна отдушин под самым потолком.
— Сколько тут проходов? — шепотом спросил Плужников.
— Вроде три.
— Идите прямо. Еще двое — левым коридором, я — правым. Один боец останется у выхода. Сальников, за мной.
Плужников с бойцом долго бродили по сводчатому, бесконечному подвалу. Останавливались, слушали, но ничего не было слышно, кроме собственного учащенного дыхания.
— Интересно, здесь есть крысы? — как можно проще, чтобы боец не заподозрил, что он их побаивается, спросил Плужников.
— Наверняка, — шепотом сказал Сальников. — Боюсь я темноты, товарищ лейтенант.
Плужников и сам пугался темноты, но признаться в этом не решался даже самому себе. Это был непонятный страх: не перед внезапной встречей с хорошо укрытым врагом и не перед неожиданной очередью из мрака. Просто в темноте ему все время мерещились непонятные ужасы вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов, бродил он впотьмах с огромным внутренним напряжением и поэтому, пройдя еще немного, не без облегчения решил:
— Показалось им. Возвращаемся.
Круглоголовый у лестницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не обнаружив, а пограничник еще не вернулся.
— Скажите, чтоб выходили.
Чем выше он поднимался, тем все отчетливее слышались взрывы. Перед самым выходом стояли женщины: наверху опять бомбили.
Плужников переждал бомбежку. Когда взрывы стали затихать, снизу поднялись бойцы.
— Ход там какой-то, — сказал пограничник. — Темень — жуткое дело.
— Немцев не видели?
— Я же говорю: темень. Гранату туда швырнул: вроде никто не закричал.
— Показалось бабам с испугу, — сказал круглоголовый.
— Женщинам, — строго поправил Плужников. — Баб на свете нет, запомните это.
Резко застучал станковый пулемет у входа. Плужников бросился вперед.
Полуголый сержант строчил из пулемета, рядом лежал боец, подавая ленту. Пули сшибали кирпичную крошку, поднимали пыль перед пулеметным стволом, цокали в щит. Плужников упал подле, подполз.
— Немцы?
— Окна! — ощерясь, кричал сержант. — Держи окна!..
Плужников бросился назад. Бойцы уже расположились перед окнами, и ему досталось то, через которое он прыгал в костел. Мертвый пограничник свешивался поперек подоконника: голова его уперлась Плужникову в живот, когда он выглянул из окна.
Серо-зеленые фигуры бежали к костелу, прижав автоматы к животам и стреляя на бегу. Плужников, торопясь, сбросил предохранитель, дал длинную очередь: автомат забился в руках, как живой, задираясь в небо.
«Задирает, — сообразил он. — Надо короче. Короче».
Он стрелял и стрелял, а фигуры все бежали и бежали, и ему казалось, что они бегут прямо на него. Пули били в кирпичи, в мертвого пограничника, и загустевшая чужая кровь брызгала в лицо. Но утереться было некогда: он размазал эту кровь, только когда отвалился за стену, чтобы перезарядить автомат.
А потом все стихло, и немцы больше не бежали. Но он не успел оглянуться, не успел спросить, как там у входа, и есть ли еще патроны, как опять тяжко загудело небо, и надсадный свист бомб разорвал продымленный и пропыленный воздух.
Так прошел день. При бомбежках Плужников уже никуда не бегал, а ложился тут же, у сводчатого окна, и мертвая голова пограничника раскачивалась над ним после каждого взрыва. А когда бомбежка кончалась, Плужников поднимался и стрелял по бегущим на него фигурам. Он уже не чувствовал ни страха, ни времени: звенело в заложенных ушах, муторно першило в пересохшем горле и с непривычки сводило руки от бьющегося немецкого автомата.
И только когда стемнело, стало тихо. Немцы отбомбились в последний раз, «юнкерсы» с ревом пронеслись в прощальном круге над горящими задымленными развалинами, и никто больше не бежал к костелу. На изрытом взрывами дворе валялись серо-зеленые фигуры: двое еще шевелились, еще куда-то ползли в пыли, но Плужников не стал по ним стрелять. Это были раненые, и воинская честь не допускала их убийства. Он смотрел, как они ползут, как подгибаются у них руки, и спокойно удивлялся, что нет в нем ни сочувствия, ни даже любопытства. Ничего нет, кроме тупой, безнадежной усталости.