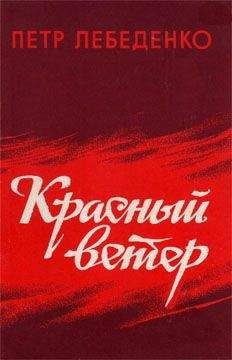Жанни привстала с кушетки, взяла из рук Кристины газету и спросила:
— Вот тут сказано: «Из достоверных источников нам стало известно…» и так далее. Достоверные источники — это ты?
— В какой-то мере и я, — просто ответила Кристина. — Ты недовольна?
— Нет, почему же, — Жанни пожала плечами. — Все ведь правильно. Вот только…
Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Да, все правильно. И конечно, правильно напечатано в газете, что отец стал жертвой фашистского террора. И что это акт политического характера… Все правильно. Вот только нет больше отца… Нет и никогда не будет. Жанни не видела, как его убивали, но ее воображение рисовало картины одна страшнее другой. Налетели на него, как стервятники. На беззащитного. И начали втаптывать в грязь… О чем он думал в свои последние минуты? И почему на встречу с ней он шел один? Боже, зачем она назначила с ним свидание около этого проклятого бистро? Если бы она пошла к нему прямо домой, все было бы по-другому. Чего она больше боялась — встречи с ним с глазу на глаз в его доме или слежки?
Вопросы, на которые ей никогда не ответить до конца своей жизни. И до конца своей жизни она будет винить только себя. Только себя…
Кристина сказала:
— Жанни, не думай, будто я не понимаю, как тебе тяжело. Но горе, каким бы сильным оно ни было, не должно нас убивать. Сколько в Испании сейчас матерей, которые оплакивают гибель своих сыновей! Сколько дочерей, оплакивающих гибель своих отцов и матерей! Но они не сдаются, Жанни. Они дерутся, потому что хотят жить… Над нашей Францией тоже бродят тучи. Ты только взгляни вокруг, Жанни! Если где и увидишь затишье, не верь ему. Это перед грозой. Но гром уже грохочет — ты только лучше слушай… Знаешь, Жанни, за что простой народ любит коммунистов? Я тебе скажу. В них стреляют, их гноят в тюрьмах, в концлагерях, но никогда никто из них не останавливается. Они не железные люди, Жанни, они так же могут страдать, как и ты, испытывать боль, утраты ранят их так же, как тебя, но они не останавливаются… И никакая тяжесть согнуть их не может… Я плохо все это объясняю, Жанни, вот когда ты ближе их узнаешь, тогда поймешь… А сейчас я хочу сказать одно: нам тоже нельзя сейчас останавливаться. Ни мне, ни тебе, никому! Я не говорю, что ты должна забыть свое горе, но не надо сгибаться под его тяжестью…
— Я не могу так, как другие, — Жанни в какой-то безнадежности покачала головой. — У меня нет для этого сил. Все во мне надломлено, Кристина. Порой мне кажется, что я уже конченый человек.
— Нет! — Кристина заглянула в глаза Жанни и повторила: — Нет! Сейчас твоя рана кровоточит, но пройдет время, и боль утихнет. Главное, ты не должна чувствовать себя одинокой. Вокруг тебя много настоящих людей, Жанни, которые так же, как ты, испытали немало горя, но нашли в себе силы для того, чтобы бороться. Найдешь в себе силы и ты. И мы тебе, в этом поможем.
Жанни знала, о ком говорит Кристина. В последнее время к ним все чаще стали приходить незнакомые Жанни люди — мужчины и женщины, парни и девушки, — по одежде которых Жанни могла заключить, что это в основном рабочий люд… Обычно они приходили ночами, когда Париж уже спал, Кристина заваривала крепкий кофе, усаживала своих гостей за стол и звала Жанни: «Садись-ка вот здесь, Жанни, послушай, о чем пойдет речь».
Они были откровенны и ничуть не стеснялись Жанни. Из их разговоров Жанни заключала, что эти люди готовятся к чему-то очень серьезному и важному. Говорили о том, что уже сейчас надо добывать оружие — на правительство надеяться нечего, оно все равно предаст народ, стоит Гитлеру лишь перейти линию Мажино. Фашисты, конечно, постараются без промедления уничтожить все левые силы — вот тогда это оружие и понадобится для сопротивления…
Говорили о том, что уже сейчас надо создавать боевые группы и тайно готовить их к боям — учить людей стрелять из пистолетов, винтовок, бросать гранаты, учить конспирации…. Жанни понимала: те, кто приходил к ним на Мулен-Вир, говорят не только от своего имени. Где-то существует какая-то организация, она вбирает в себя тысячи и тысячи вот таких же маленьких ячеек, руководит ими и направляет их действия.
Жанни все сильнее привязывалась к Кристине. Кристина не была похожа ни на одну из тех женщин, которых до сих пор она знала. Никакого кокетства, не говоря уже о жеманстве, удивительная простота — Кристина обладала необыкновенным обаянием, в глазах ее всегда можно было увидеть сочувствие и доброжелательность, и только когда она говорила о фашизме, лицо ее становилось жестким и решительным, слегка удлиненные голубые глаза темнели.
— Фашизм — это исчадие ада! — говорила она резко. — Конкистадоры, инквизиторы, палачи всех времен и эпох — божьи коровки в сравнении с фашистами. Не зря они получили название «коричневая чума»…
В такие минуты Кристина чем-то напоминала Жанни Ласнера. Жиля Ласнера, крестьянина, у которого она жила на ферме близ Монпелье. Ласнер вот так же сжимал кулаки, в его глазах появлялась такая же жесткость и непримиримость… Да, Кристина в такие минуты преображалась. Она словно рвалась в бой, и Жанни невольно думала: «Кристина может быть беспощадной…»
В то же время Кристина не была лишена женственности. Она тщательно следила за своей внешностью, одевалась просто, но со вкусом истинной парижанки, не терпела никакой неряшливости и часто жаловалась Жанни:
— Если бы ты знала, Жанни, как мне хочется иметь ребенка! Посмотри, какие у меня груди! Я выкормила бы такого богатыря, что он в десять лет уже носил бы меня на руках. — И грустно, печально смеялась.
Однажды, спустя месяц после гибели де Шантома, Кристина сказала:
— Вот что, милая Жанни, довольно тебе сидеть в этих четырех стенах и предаваться меланхолии. Не такое сейчас время, чтобы честные французы и француженки сидели сложа руки.
— Я понимаю, Кристина, — смущенно ответила Жанни. — Я понимаю, что тебе нелегко. Мне и самой стыдно быть на твоем иждивении, но что же делать? Снова уехать в Монпелье?
— О чем ты говоришь? — воскликнула Кристина. — Тебе и вправду должно быть стыдно, если ты до сих пор как следует меня не узнала. «На иждивении»! Разве об этом речь? Я хочу, чтобы ты включилась в нашу работу. Понимаешь? Я хочу, чтобы ты стала таким же нужным Франции человеком, как те товарищи, которые к нам приходят. Пойми, Жанни, ты станешь по-настоящему себя уважать.
— Но что я могу сделать?
— Не бойся, мы не заставим тебя стрелять из винтовки а бросать гранаты — придет время, ты сама захочешь это делать. А сейчас… Ты говорила, что когда-то скуки ради выучилась печатать на машинке. Вот это нам сейчас как раз необходимо. Ну, Жанни! Решено? Вижу, что решено. Я уверена: если бы твой Арно узнал, что ты ступила на верную дорогу, ему легче было бы драться там, в Испании…
1
Мартинес разыскал Денисио у искалеченного «чатоса» — советского истребителя-биплана И-15. Самолет с поломанным шасси, с измятыми нижними крыльями и скрученными лопастями винта стоял на краю аэродрома, вернее, даже не стояла, а лежал, точно подбитая птица.
Летчики, механики, мотористы, оружейники ходили вокруг машины, разглядывая ее и покачивая головами. Верхнее крыло, фюзеляж и руль поворота были изрешечены пулями так, будто там, в бою, летчик специально подставлял самолет под, пулеметные очереди.
Механик искалеченного «чатоса» говорил:
— Фаррера мог выпрыгнуть, но он этого не сделал. Решил тянуть до конца. Ему не хватило всего полсотни метров. Но все равно, если бы не эти проклятые камни, Фаррера посадил бы машину как надо.
— А теперь ее на кладбище, — сказал моторист в сером промасленном комбинезоне. — Теперь-то ее точно на кладбище.
Механик «чатоса» с презрением посмотрел на моториста и отрезал:
— Дурак! «На кладбище»! Тебе ослам хвосты крутить, а не служить в авиации. Мотор-то целый, видишь, балда? Дыры залатаем, шасси найдем, винт у нас есть… «На кладбище»! Вы посмотрите на этого трепача, камарадас! Дай ему волю, он каждую чуть-чуть подбитую машину отправлял, бы на кладбище…
— Твой «чатос» — чуть-чуть подбитая машина? — не унимался моторист.
Механик еще больше вспылил:
— Слушай, ты, попридержи свой длинный язык! Фаррера рисковал жизнью, чтобы спасти машину. Если бы тебе досталось вот настолько того, что досталось Фаррере в последнем бою, ты наложил бы полные штаны. Это ясно, как дважды два. А теперь давай катись отсюда, пока не поздно!
Мартинес спросил у Денисио:
— Ты видел — села «катюша»?
— Да.
— Залетный гость. Из славянского племени.
— Наш? — сразу оживился Денисио. — Где он сейчас?
— У него что-то с мотором. Эстрелья повела его кормить. Пойдем.
Летчик «катюши» сидел за столом и с завидным аппетитом уплетал макароны с протертым сыром, довольно часто прикладываясь к стакану с вином. Выпьет глоток-другой, затянется сигаретой, положит ее на край стола и снова — за макароны. Потом взглянет на примостившуюся напротив Эстрелью, улыбнется: