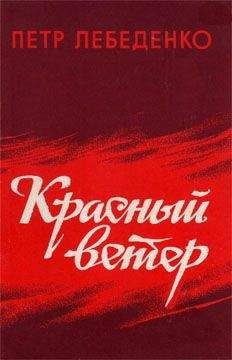Они остановились только на мгновение. И только на мгновение умолк их вопль. А потом, ослепленные ненавистью, снова бросились вперед. Карабины им теперь были не нужны — они побросали их перед самыми окопами и остались лишь с кривыми ножами: настоящие мясники, на лицах которых ничего, кроме жажды убивать, не оставалось.
…Огромный, почти двухметрового роста, риф-бербериец, полуголый, со множеством шрамов на коричневом теле, прыгнув в окоп-траншею, ударом кулака сшиб с ног солдата-чеха, придавил его коленом и тут же, что-то пробормотав, левой рукой откинул его голову назад, полоснул ножом по горлу. Это было привычным для него занятием, и он, пожалуй, никогда не задумывался над тем, что давно перестал быть человеком и стал зверем. Он работал. На рукоятке его ножа было уже девять отметин — девять жертв числились на его личном счету, он гордился своими подвигами и благодарил аллаха за то, что тот дал ему такую сатанинскую силу.
Риф выпрямился и оглянулся по сторонам. В двух шагах от него бритоголовый марокканец сцепился с республиканским солдатом, внешне похожим на испанца. Обхватив руку марокканца чуть повыше запястья, республиканский солдат не давал ему возможности воспользоваться ножом, а сам уже занес короткий самодельный кинжал и готов был поразить марокканца в грудь. Риф-бербериец, с виду казавшийся неуклюжим, слегка присел и тут же прыгнул к сцепившимся, ловким и сильным ударом выбил из руки испанца кинжал и всадил ему нож в спину. Испанец упал без звука, даже не застонав… Риф довольно ухмыльнулся и бросил взгляд вдоль траншеи. Кровавая схватка была в разгаре. Короткие вскрики, глухие стоны, ругань, проклятия — все смешалось в какой-то непонятный гул; клубки человеческих тел, мелькание ножей, штыков, кулаков, прикладов карабинов — это было похоже на ад, на преисподнюю, где последние человеческие страсти, прежде чем им навсегда угаснуть, проявляются с невиданной силой, дикостью и непримиримостью.
Риф бросался влево, вправо, бил ножом, кулаками, подминал под себя, в глазах его уже потух тот первый огонь ненависти, который горел в начале схватки, но он не останавливался, звериным своим инстинктом вдруг почувствовав, что перед ним противник не совсем обыкновенный, не такой, с каким ему приходилось встречаться прежде. Еще до атаки им говорили: вон в тех окопах находятся солдаты интернациональной бригады, дьяволы, а не люди, и только вы, сыны Мухаммеда и защитники ислама, способны уничтожить этих дьяволов.
Они и раньше слышали об интернациональных бригадах, но разумом своим понять, что это такое, не могли. В одном батальоне чехи, испанцы, русские, венгры, немцы, французы? Плевать! Когда все эти неверные услышат «алла-ла-лла-ла!» и увидят кривые ножи, они побегут, как зайцы от пантеры.
И вот они все это увидели и услышали. И никто из них не побежал. Их значительно меньше, они все вроде как заморыши, наверное, неделями недосыпали и недоедали, но — велик аллах! — дерутся и впрямь, как дьяволы. Бросаются с голыми руками, вцепляются в глотки, раскраивают головы марокканцев саперными лопатками, колют штыками.
И все тише, тише боевой клич марокканцев. Им теперь не до боевого клича, им теперь помолиться бы во спасение тела и духа, но и на молитву им теперь времени не отпущено: один за другим выскакивают они из окопов и бегут назад, несмотря на угрозы и проклятия офицеров, которые с пистолетами в руках преграждают им путь.
А риф-бербериец продолжает драться. Он тоже шлет проклятие тем, кто трусливо бежит от неверных, кричит им вслед, что они даже не собаки, а помеси шакалов и гиен и что после этого боя он сам разделается с трусами, но, странно, в его угрозах слышится скорее злоба и бессилие, чем уверенность. В Испании он дерется с первых дней мятежа, имеет уже две награды, и не было случая, чтобы когда-нибудь он подумал о том, что рано или поздно жизнь его может оборваться. А вот сейчас… Сейчас чувство уверенности его покинуло. Почему — риф-бербериец и сам не знает. Все глубже в душу проникает страх, который отнимает силы, все сильнее желание выбраться из окопа и бежать вслед за теми, кого он называет помесью шакалов и гиен. Пускай его тоже так назовут, но зато он останется жив, зато ему не раз и не два доведется увидеть, как всходит и заходит солнце, и услышать, как там, на его родине, поют птицы.
Риф вдруг заметил, что вокруг него внезапно образовалась пустота: ни слева, ни справа — ни одного человека. Ни своих, ни чужих. Только трупы на дне окопа — в самых неестественных позах, с окровавленными лицами, с уже остекленевшими глазами… И тишина… Такая тишина, какую он слышал в ранние предрассветные часы у себя на родине, когда был мальчишкой. С необыкновенной ясностью он сейчас вспомнил свою горную деревушку, бедную, но крепко сколоченную отцовскими руками хижину, самого отца — трудолюбивого, добродушного, всеми уважаемого человека, — мать и многочисленных братьев и сестер.
Дружная была у них семья — ни ссор, ни грызни, как в других семьях, никто никому не завидовал, у каждого было лишь одно желание: помочь друг другу, облегчить нелегкий крестьянский труд своим близким — брату, сестре, матери, отцу. В свободные вечерние часы, когда вся семья собиралась на ужин, отец, прошептав молитву, говорил: «Вот прошел еще один день, и мы собрались вместе под небесным шатром, живы и здоровы благодаря аллаху. И снова в сердцах наших нет злобы и ненависти к ближним своим, мы чисты душой перед великим отцом нашим аллахом и великим учителем нашим Мухаммедом. И да будет так до дня страшного суда, когда с каждого из нас спросится за все земные дела». — «Да будет так», — с почтительностью повторяла вся семья, и только после этого приступали к ужину.
А в ненастные дни, когда в горах завывал ветер, хлестал по крышам крестьянских хижин холодный дождь и черные тучи ползли по ущельям, вся семья собиралась у неярко горевшего очага, и отец начинал рассказывать о том, как он под знаменем прославленного полководца Абд-эль-Керима сражался за свободу своей Берберии. Али — было ему тогда чуть больше десяти лет — жадно впитывал каждое слово, сжимал кулаки и с гневом восклицал: «Когда я вырасту, буду убивать всех неверных! Французов, англичан, испанцев!»
Отец глядел на него мудрыми печальными глазами и говорил: «Не все французы, англичане и испанцы неверны, сын мой. Неверный тот, кто отнимает у человека кусок хлеба, уводит его коня, поджигает его хижину и лишает свободы.. Запомни это на всю жизнь. И не держи в сердце своем ненависти против человека иного племени, если он, как и ты, руками своими добывает пропитание для себя и близких своих, если он не зарится на коня твоего и землю твою…» — «Так велит коран?»— не совсем понимая отца, спрашивал Али. «Так велит всемогущий аллах», — отвечал отец.
Отец умер внезапно. Нес на плечах бревно и вдруг почувствовал, как что-то внутри оборвалось и все тело покрылось липкой испариной. Сбросил тяжелую ношу на землю, с трудом доковылял до хижины и попросил жену: «Собери всех детей моих, пришел мой час…» И, мирно со всеми попрощавшись, тихо угас.
А через три года умерла мать. И разбрелась по белому свету некогда дружная семья. Али сейчас уже не помнил, какие пути привели его в большой город. Был он не по летам рослый и крепкий, в морском порту, куда он однажды забрел, наткнулся на него белый человек в военной форме, оглядел его ладную фигуру с ног до головы, бесцеремонно ощупал тугие мышцы, спросил: «Из деревни?» — «Из деревни», — ответил Али. «Что тут делаешь?» — «Голодный я», — сказал Али, не спуская глаз с белого человека. «Идем со мной».
Вот так риф-бербериец оказался в какой-то военной школе, где его стали учить не столько грамоте и военным наукам, сколько ненавидеть человечество. Одних изнурительная муштра доводила до истощения, а привыкший к тяжелой работе Али только креп и закалялся, и уже через два года не было ему равных а силе и ловкости. Он овладел искусством многих видов борьбы с противником, из карабина бил без промаха в подброшенный орех, одним ударом кулака мог свалить на землю своего учителя-инструктора, но самым любимым его оружием был кривой острый нож, на деревянном черенке которого не кто иной, как начальник военной школы, не то в шутку, не то всерьез выжег слова: «Али-мавр».
Али хвалили, подчеркивая его исключительность, ежедневно вдалбливали, что в будущем, если он будет верно служить, его ждет прекрасная жизнь, лишь бы только никто этому не помешал. «А кто может помешать?» — спрашивал Али. И слышал в ответ: те, кто ненавидит солдат и офицеров, плебеи, которые против короля и всякой власти вообще, люди, отдающие на поругание священный коран.
Вначале молодой риф задумывался: «А как же Абд-эль-Керим, под началом которого сражался отец? Они ведь не отдавали на поругание священный коран, но их убивали, резали, вешали вот точно такие же белые, как офицеры военной школы!»