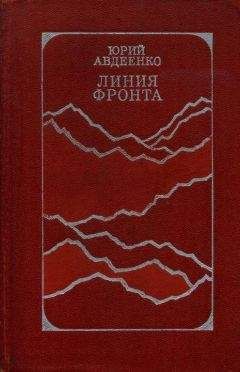— Чем не игрушки?
Мины были синие, размером с пол-литровые бутылки. Белые стабилизаторы казались маленькими коронами.
— Что напрасличаешь, вычадок старый? В голове у тебя хоть маленько осталось? — запричитала бабка Кочаниха.
Дед покачал головой.
— Зря нервы изводишь. Мины безопасные. — И в доказательство грохнул одну о землю.
Бабка перекрестилась и, бормоча молитву, поплелась в комнату.
Дед авторитетно сказал:
— Они без взрывателя. Я из них взрыватели еще в девять утра вывернул. Берите! Таких игрушек в Туапсе, пожалуй, ни у кого нет. И кто знает, есть ли еще где вообще…
— А страшно, пан Кочан? — спросила Ванда.
— Что страшно?
— Выворачивать взрыватели…
Дед Кочан почесал нос.
— Верю я словам своей бабки. Она меня каждое утро напутствует: «Не доглядишь оком, заплатишь боком». Потому и не страшно, что гляжу…
4
Ночью их пугнула тревога. Под одеялом было тепло, и постель обнимала бока так мягко, но сирена выла и выла, и паровозные гудки басами вторили ей. О том, чтобы не бежать в щель, не могло быть и речи.
Как назло, штанина брюк подвернулась. Степан злился, сидя на кровати. А в комнате темно. И свет нельзя включить, потому что они легли с открытыми форточками и окна были не замаскированы. Тем более, что большущее окно в маленькой комнате можно было запластать лишь театральным занавесом.
Наконец Степка натянул брюки. А Любаша вообще не стала одеваться, завернулась в байковое одеяло и пошлепала в щель. Мать еще запирала дверь, когда в небе заметались прожекторы и несколько раз хлопнули зенитки.
Щель была вырыта под ранней белой черешней, возле забора, — узкая Г-образная траншея, перекрытая накатом бревен, который, в свою очередь, был притрушен желтыми комьями глины.
Ковальские уже сидели в конце щели. Беатина Казимировна посветила фонариком. Она экономила батарейку, приберегая ее для ночных тревог.
Ванда захныкала:
— Как это хорошо — не бояться ночных тревог! Наверное, я никогда не буду такой счастливой…
— Лучше пусть бомбят весь день, — подхватил Степка. — Только бы дали выспаться.
Зенитки не стреляли. И гула самолетов не было слышно. Лишь шумели цикады и потревоженные птицы. В щели пахло сырой землей.
Разговаривать не хотелось.
Любаша улеглась, и мать заворчала:
— Простудишься.
Но Любаша ответила раздраженно, что лучше подохнуть, чем так жить.
Степка знал: в таких случаях сестре не надо перечить. Она человек упрямый. И это не единственный ее недостаток. Любаша считает, что она самая умная, самая красивая, самая энергичная. «И пусть считает, — думает Степка. — Ведь от этого никому ни холодно и ни жарко. А вообще-то, девочка она на самом деле заметная. И энергия у нее есть. Только пробуждается очень редко».
Последний раз «пробуждение» случилось весной этого года, когда в школе объявили кампанию по сбору бутылок.
В эти бутылки нальют горючую жидкость, и наши бойцы успешно станут сражаться с фашистскими танками.
Так на общей линейке сказал директор школы. И каждый школьник принес из дому все, что мог. Но оказалось, четвертинки и поллитровки не очень годятся для столь грозного оружия. Как минимум, нужны семисотграммовые бутылки из-под вина, а лучше всего из-под шампанского. Словом, школа не выполнила плана.
И тогда Любаше пришла идея. Она пришла ей самой первой в городе. И это можно было бы назвать почином, прояви кто-нибудь из пишущих людей журналистскую сноровку и находчивость.
Любаша сидела на крыльце и смотрела в голубое весеннее небо. И глаза у нее от этого неба были голубыми, а лицо отрешенным, словно она жила там, на невидимых сейчас звездах, в окружении сказочных принцев и фей.
Возле калитки, спрятавшейся в кустах мелких роз, белых, розовых, ярко-красных, шептались Степка и Ванда.
— Все сказку слушает…
— Часто с ней это бывает?
— Бывает… Она сама мне под большим секретом поведала. Слышится ей в такие минуты чей-то голос…
— Мужской, женский? — спросила Ванда.
— Не знаю. Только сказки ей рассказывает все больше про мертвецов… И про звезды.
— Ой!.. — поежилась Ванда.
Брат посмотрел на Любашу, приставил палец к виску, покрутил и многозначительно присвистнул.
Может, от этого свиста Любаша и спустилась с небес. Спросила по-будничному озабоченно:
— Степка, у нас есть мешок?
— Какой? — не понял он.
— Обыкновенный. — В голосе сестры чувствовалось обычное, нормальное для ее паршивого характера раздражение.
И Степке стало ясно, что со сказкой на сегодня покончено.
— Должен быть, — ответил он.
— Я и без тебя знаю, что должен быть. — Любаша со вздохом поднялась с крыльца. — Спрашиваю: где?
— Если хотите, я принесу, — вежливо сказала Ванда.
— Вот что значит девочка! — сказала Любаша. — А мальчишки — сплошная бестолковщина.
— Сама ты бестолковщина! — сказал Степка и на всякий случай выскользнул за калитку.
Но Любаша не разозлилась и не запустила в брата ничем тяжелым. Она как-то равнодушно сказала:
— Хорошо. Запомню твои слова. Неси, Ванда, мешок. И спроси у мамы разрешения пойти со мной. А этот мудрец пусть останется дома.
Но Степка, конечно, не остался. Он плелся за ними, как собака, увязавшаяся за хозяевами, не решаясь приблизиться, но и не отставая. Корчил рожицы, когда Любка и Ванда оборачивались. А они смеялись откровенно и вызывающе.
Солнце стояло уже над портом. И тени деревьев не пересекали улицу, а залегли вдоль заборов. Улица изгибалась в гору светлая-светлая. Цвели розы, сирень, акации. Но улица не пахла цветами. Она была пронизана запахом моря, как солнцем был пронизан этот ясный, голубой день.
Любаша и Ванда остановились возле калитки бабы Кочанихи, о чем-то поговорили с ней. Потом баба вынесла три большие бутылки. И Любаша спрятала их в мешок.
Наконец она поманила Степку пальцем, милостиво сказала:
— Грубые люди всегда отличались большой физической силой. Покажи-ка и ты свою!
Степка взял мешок.
Они ходили от двора к двору, точно странники. Объясняли, что им нужны бутылки, большие бутылки из-под вина. Эти бутылки они отнесут в школу, а оттуда их отправят на фронт.
Повторять все это приходилось возле каждой калитки. И у Любаши, как она заявила, «устал рот». Тогда они стали объясняться с хозяевами по очереди: Ванда, Степка, Любаша.
Бутылок в мешке прибавилось. Он был полон только наполовину, когда они остановились возле одного дома, утонувшего в листьях, точно птичье гнездо. Очередь «выступать» была Степкина, и он закричал хрипловатым, ломающимся голосом:
— Тетенька!
Они везде кричали «тетенька», ибо кричать «дяденька» в военное время было просто бессмысленно. Правда, случалось, что на крик выходил какой-нибудь старичок, тогда они говорили «дедушка». Однако в этот раз на голос Степана вышла тетенька. Впрочем, она не вышла, а выплыла, но не как лебедь, а как утка, небольшая, с прилизанными, видимо недавно вымытыми волосами.
— Здравствуйте, извините за беспокойство, — сказал Степка.
— Ну какое же там беспокойство! — очень громко и очень напевно ответила тетенька. Щеки и нос ее сморщились в улыбке, а глаза оставались маленькими, острыми, как шурупчики.
Она подошла к калитке и коснулась ее ладонями, белыми и пухлыми, точно пышки.
— Мы собираем бутылки, — сказал Степка. — Для фронта.
— Значит, правда, что всем красноармейцам дают по сто граммов, а командирам по двести? — спросила тетенька.
— Не знаю, — ответил Степка. — Мы собираем бутылки для танков.
— Для борьбы с танками, — поправила его Ванда.
— Вот так дела! — по-прежнему напевно, но с оттенком изумления произнесла тетенька.
— В них жидкость наливать специальную будут, — поспешно пояснил Степка. — А потом поджигать…
— Спичками? — еще более изумилась тетенька.
Степка беспомощно посмотрел на Любашу. Но было очевидно, что она тоже не знает, чем станут поджигать бутылки.
Нашлась Ванда. Она сказала:
— Жидкость особая. Она воспламеняется от удара.
Позднее Степан узнал, что Ванда объясняла не совсем правильно, но тогда он обрадовался ее ответу.
— Да, от удара… Для этого нужны большие бутылки. Не меньше чем на семьсот пятьдесят граммов.
— Есть такие бутылки, — сказала тетенька.
— Принесите! — попросил Степан.
— Как же я принесу? — опять изумилась тетенька. — Их очень много…
Бутылок действительно было много. И все из-под шампанского. Они лежали в старом, запущенном свинарнике. Двери свинарника висели на одной петле, крыша сильно прохудилась, и бутылки лежали грязные, запыленные.
— Все в мешок не влезут, — сказала Любаша. — Придем еще раз.