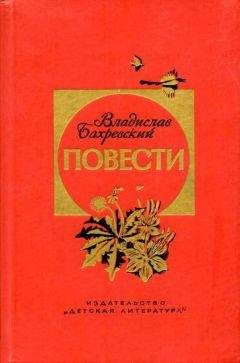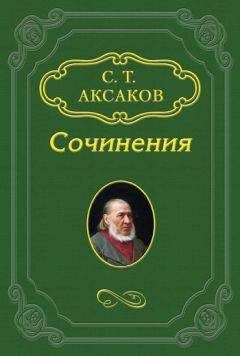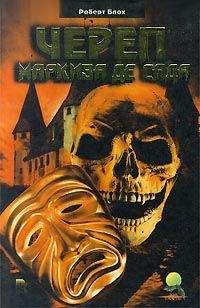— Не знаю, — признался Федя с отчаянием.
— Не печалуйся, мальчик! Не всякое знание благословенно! Горько мне сказать тебе, но знание тоже не делает человека счастливым. И все же стремись к знанию, ибо из невежества проистекает довольство и покой, подобный покою свиньи, хрюкающей в зловонной луже.
Иннокентий говорил столь возвышенно и страстно, словно слушала его толпа профессоров, а не мальчик, которому предстояло пойти в третий класс. Федя боялся, что голубой старик вдруг догадается об этом, и, действительно, Иннокентий смолк, щуря глаза и как бы выглядывая что-то на поле.
— Так в каком месяце ты родился? — совсем другим голосом, словно бы мимоходом, спросил Иннокентий.
— В августе.
— Ты рожден под знаком Льва, мальчик!
4
Солнце нагрело золотые сосновые доски Фединого сундука. Он лег, согнув ноги — перерос свое ложе, — лег, не подкладывая под голову подушки. Пусть будет жестко, неудобно. Но он сразу же и позабыл про неудобства. В голове вихрь.
Если есть на белом свете такие взрослые, как этот старик, значит, и сказки случаются наяву.
Домишко Иннокентия разве не сказка? Сказка!
«Ты рожден под знаком Льва, мальчик!»
Наверное, это хорошо — родиться под знаком Льва. Лев — самый сильный зверь, но его никто не называет злобным, как тигра.
Сильный может сделать больше добра, чем слабый. А что можно сделать доброго людям теперь, вот сейчас же?
Федя вскочил с сундука, подбежал к матери, прижался к ней. Давно с ним такого не было.
— Мама, пожалуйста, отпусти меня к Яшке. Я тебя очень прошу. Очень! Мы с ним в одном классе будем учиться. Он хороший. Ему надо помочь убрать сено.
— Конечно, помоги. Смотри только с вилами осторожней! А почему ты к Виталику Мартынову не ходишь?
— Я его ненавижу, мама.
— Что ты! Так нельзя.
— Мама, Мартынов все гадости делает исподтишка.
Сено!
— Сначала кувыркаемся! — распорядился Яшка.
Ребята сорвались с места, и Федя сорвался. Ребята на крышу, и он на крышу.
— Э-э-э-й-й! — крикнул Яшка, руками схватил себя за ноги, и, кувыркнувшись в воздухе, полетел головой в стожок. Ребята посыпались следом, и Федя вдруг остался один на крыше.
— Чего же ты?! — крикнул Яшка.
Федя придвинулся к краю, но посмотреть вниз не решился. Он смотрел на ласточек, ласточки ловили мошек, разгоняясь по небу, как по льду, замирая вдруг, словно пропускали вперед себя отставший ветер и, обманув его, ныряли к земле.
— Он боится! — крикнул Ванечка, меньшой Яшкин брат.
Федя боялся, но он раскрыл руки, завел их за спину и полетел, удерживая тело прямо, и упал в сено грудью. Оно дохнуло на него коровьими теплыми боками, высохшими, но все еще пахучими летними дождиками.
— О! — крикнули ребята. — Он летел, как ласточка. Федька — птица. Касаточка!
1
Тетя Люся, сраженная собственной добротой, разрыдалась. Она купила, да что там купила — охотников купить много — она достала, выклянчила, выхватила, опередив редактора газеты Илью Ляпунова, начальника электростанции Васильева и своего непосредственного начальника, завсельпо Ивана Марковича Флирта, — школьный ранец, на ремнях, с застежками, с потайными внутренними карманами и с двумя явными, внешними, для пенала и для чернил.
— Вот, теперь видно, идет сын лесничего, а не какого-нибудь ночного сторожа! — тетя Люся вытирала слезы косынкой. — Ну, Федька, учись! Мы о таком богатстве, когда сами в школу ходили, и не мечтали. Мать холщовую сумку сошьет — вот и вся обнова.
— Сумки-то, верно, холщовые были, да вас-то десятеро, каждому за портфелем в город ездить накладно, зато на лошадях в школу возили. На своих! — это высказалась бабка Вера.
— Ладно, мамка! Что было, то прошло! — тетя Люся села на табуретку, обняла Милку и Феликса и счастливыми глазами глядела на Федю. — Вылитый отец!.. Ты, Милочка, не куксись. Тебе в школу через год — купим, а Феликсу через два. Все вы у нас с портфелями будете, не хуже других, а может быть, и побогаче… Но с тебя, Федя, спрос теперь особый. Подавай младшим пример.
Федя пример подавал уже два года. Читал он много. Прочитал если не больше, то уж никак не меньше тети Люсиного. Беда его — чистописание и арифметика. По чистописанию то перо кляксу посадит, то рука дрогнет, и какая-нибудь шипящая разъедется на полстроки. По арифметике Федя твердо складывал, но уже в вычитании затруднялся, умножал без ошибок на пять и на десять, разделить без помощи мог на два, на три — пробовал, на четыре или тем более на шесть — голову попусту не ломал. Посидит на контрольной, поглядит, перепишет пример, выведет вожжи, которые означают «равняется» и тоскливо ждет звонка. Перед звонком, чтоб не посчитали за бунтовщика, рядом с вожжами впишет какую-нибудь цифру, наугад, но такую, чтоб учительница не очень уж и возмутилась. К задачам Федя не притрагивался. О эти жуткие велосипедисты и пешеходы! Федя ждал настоящей учебы, когда будет география, история, ботаника! По истории и географии он и в первом классе знал за семилетку.
Учеба учебой, а ранец Феде очень понравился. Наденешь, и как десантник с парашютом. Одно опасно: после такого подарка тетя Люся обязательно будет дневник проверять, требовать тетрадки с домашними работами.
— Федя! — сказала мама, указывая на тетю Люсю:
— Большое спасибо! — опомнился Федя.
Покраснел, дал Милке и Феликсу потрогать пряжки, положил ранец в свой угол и хотел удрать, но бабка Вера была тут как тут.
— Ранец-то повыше убери! На печку, а то дети до школы отделают. Такое богатство не на год.
Федя послушался. Поставил табуретку, положил ранец на печку.
— Ты бы хоть поцеловал тетю! — сказала мама.
Федя чмокнул в рыжеватую, пахнущую духами теткину мягонькую щечку. Чмокнул и бежать.
— От радости он такой, — сказала бабка Вера. — Замечаю, боится нежным быть. К нему с добром, а он как волчонок.
— Возраст у него такой, — повинилась за Федю мама.
2
Раньше Федя учился в школах-избах, в обыкновенных, деревянных, деревенских. Старожиловская школа была двухэтажная, каменная, с библиотекой, с батареями вместо печек, настоящая городская школа.
Федя не захотел, чтоб его провожали. Ребята засмеют: третьеклассник с мамой пришел. Но и к школе подойти не осмелился. Перед высоким крыльцом кипела школьная братва.
— Гам-гам-гам-гам! — висело окрест.
— Гав-гав-гав! — брехали все собаки Старожилова.
— Гий-гий-гий! — кричали с деревьев школьного парка соскучившиеся по ребятам галки.
Федя стоял под деревом, шагах в пятидесяти от школы, не зная, как ему быть: то ли обратно повернуть, то ли нырнуть в эту кашу и спрашивать, где третий класс.
— Федька, здоров! — кто-то больно трахнул ладонью по плечу.
Это был Яшка.
— Ну, чего? Поучимся?
Яшка положил под дерево свой облупившийся белый дерматиновый портфель и сел на него.
— Садись. Учителя выйдут, тогда и подойдем. А то все орут, как маленькие.
Федя снял с плеч ранец, положил на землю…
— Зачем такую вещь портить? — расстроился Яшка. — На мой садись.
Он подвинулся, а у Феди от благодарности навернулись на глаза слезы: как-никак страшновато в первый же день отделать «тети Люсин» ранец.
— Ну так что, говорю, поучимся?
— Поучимся!
3
Пахло непросохшей побелкой, партами, мелом. Ребята вертелись, перекрикивались, толкали девчонок, девчонки, поднакопив обиду, собирали учебники стопкой и вдруг трахали обидчиков по головам.
Учительница завела ребят в класс, сказала, чтобы садились, как сидели в прошлом году, и, когда Федя остался один, показала ему на первую парту:
— А ты, Страшнов, — сюда.
Федя удивился — учительница уже знает его, и еще больше тому, что посадили его с маленьким мальчиком, наверное, тихоней. Все мальчики сидели с девчонками, даже Мартынов.
Первый урок в новой школе начался необычно, по-городскому.
Учительница, прямая, как спинка стула, с мешочками под глазами (а глаза у нее были как дважды разведенные водой синие чернила) улыбнулась и напряженными тонкими губами сказала четкие слова, словно камушки холодные просыпала:
— Новая программа третьего класса упрощена. Уроки истории будут давать теперь только в четвертом классе. Однако первый урок нового учебного года мы посвятим все-таки истории. Назовите основные победы нашей Красной Армии, которых она достигла летом текущего года.
Руки взметнулись, словно лес вырос.
— Третьего июля взяли Минск.
— Форсирован Буг.
— 1-й Белорусский фронт вошел в Польшу.
— Взяли город Люблин.
— Наши взяли Брест.
— Войска армии Чуйкова форсировали Вислу.
— Еще, ребята! Еще! — говорила учительница, и в глазах у нее почему-то стояли слезы.