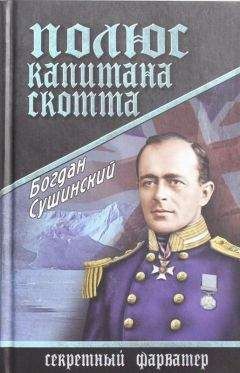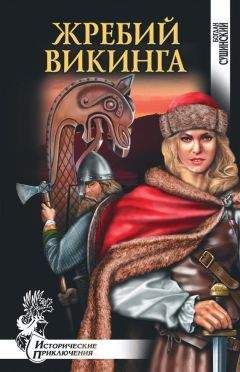«И прекрасно! – мысленно возликовал барон. – Я и так намеревался делать вид, что являюсь вашим представителем, Роммель. Но теперь мне уже не придется лгать». А вслух произнес:
– Именно об этом, о таком статусе, я и намеревался просить вас, господин фельдмаршал.
– Следовательно, говорить вы будете от моего имени. А то я ведь запросто могу растерять все эти сокровища по ливийским пескам.
– Возможно, это было бы наиболее благоразумным из всего того, что мы можем предпринять.
Роммель взглянул на подполковника с нескрываемым любопытством. И Шмидт понял, что именно это его предположение окончательно развеяло подозрение фельдмаршала в измене.
– Вы, лично вы, уже попытались делать это? Только правду.
– Пока нет, – уверенно солгал подполковник. Он и в предсмертном бреду сумел бы вспомнить ту небольшую пещерку в скале, в тайнике которой припрятал несколько золотых безделушек, утаенных от личных шпионов Роммеля, имевшихся в его команде. – Но, очевидно, это тоже имело бы смысл.
– Захватывающая мысль. Однако боюсь, что после войны очень трудно будет воспользоваться этими кладами. Визы, досмотры в таможнях. Куда разумнее позаботиться о нашем благополучии уже тогда, когда сокровища окажутся в Германии. Я что, опять несправедлив? Кто-либо попытается осудить нас?
– Никто. Не посмеют. И когда мы, наконец, доставим сокровища в Европу, никто не помешает нам позаботиться о себе.
– Никто, – поддержал его Роммель. – Я что, несправедлив?!
– Но их еще нужно доставить туда, – резковато проговорил оберштурмбаннфюрер, в то же время напоминая фельдмаршалу, что доставлять все же придется именно ему, Шмидту. И рисковать тоже придется ему.
А когда начальник «золотого конвоя Роммеля» уходил, фельдмаршал неожиданно вновь вспомнил о песках Ливийской пустыни.
– Вот что, барон, – молвил он, – как бы ни складывалась ситуация, вы в любом случае должны распустить слух о том, что клады Роммеля приказано прятать в песках. Это хоть в какой-то степени будет отвлекать внимание искателей кладов от тех мест, где они в самом деле будут спрятаны.
* * *
…Однако все это, в том числе и поездка в Берлин, уже принадлежало прошлому, и с воспоминаниями покончено.
Часовой задержал оберштурмбаннфюрера у наспех выложенной каменной ограды, наподобие той, что была сооружена здесь когда-то давно кочевниками. За такими ограждениями, предстающими в форме четырехугольника, они устраивали себе привалы, спасаясь тем самым и от хищников, и от внезапного нападения пустынных разбойников.
– Командующий никого не принимает, – заявил он и сделал вид, что сразу же потерял к оберштурмбаннфюреру всякий интерес.
– В таком случае позовите адъютанта фельдмаршала. Скажите, что здесь его ждет оберштурмбаннфюрер фон Шмидт и что это срочно.
Часовой еще только решал, каким образом отделаться от назойливого эсэсовца, когда из ближнего шатра вдруг вышел тот, кто сейчас более всего нужен был Шмидту, – полковник Герлиц.
– Вы очень кстати, полковник.
– Я всегда кстати.
– Мне нужно увидеться с Роммелем.
Адъютант командующего подозрительно как-то осмотрел оберштурмбаннфюрера, словно видел его впервые, и процедил:
– Командующий приказал: «Никого»!
– Передайте, что здесь оберштурмбаннфюрер Шмидт.
– Вижу, что уже оберштурмбаннфюрер. Однако при всем том почтении, с которым фельдмаршал относится к мундиру офицера СС.
– Я прекрасно знаю, с каким «почтением» он относится к мундиру офицера СС, господин Герлиц, поэтому прекратите паясничать. Перед отлетом в Берлин я встречался с фельдмаршалом. У нас был длительный разговор…
– …Произведший на фельдмаршала неизгладимое впечатление.
– …И что я только что прибыл из Берлина. Есть важное сообщение.
– Наслышан, что уже из Берлина, о котором нам, забытым в песках Ливийской пустыни, приходится только мечтать.
– Вы теряете время, полковник. Свое и мое. Передайте фельдмаршалу, что беседа с Гиммлером – та беседа, в которой он был так заинтересован, – у меня все же состоялась. После этого все его запреты отпадут.
– Сообщив ему об этом, я поражу воображение командующего, – еще более саркастически объявил этот худощавый нагловатый щеголь, который за все время их пребывания в Африке так и не снизошел до того, чтобы познакомиться со Шмидтом поближе, и на которого форма эсэсовца производила не большее впечатление, нежели балахон местного туземца.
– Вполне возможно, что и поразите.
– Фельдмаршал уже наслышан о вашем прилете и велел передать, что сможет принять вас в лучшем случае завтра. В лучшем… случае. А пока идите и занимайтесь подготовкой конвоя к отправке.
– Конвой – это дерьмо!
– Не скажите.
– Разве он уже готов?
– Естественно. Тем временем мы уже допустили утечку информации о том, что, дескать, германское командование спешно прячет в ливийских песках конфискованные у враждебных Германии шейхов и купцов драгоценности. Одному пленному английскому офицеру-интенданту, случайно подслушавшему разговор офицеров штаба Роммеля, мы даже позволили бежать.
– Чем сразу же натолкнули английскую контрразведку на мысль о грубо сработанной германцами дезинформации. Ну да что уж тут.
– Были и другие источники.
– Меня они не интересуют, полковник. Лучше скажите, куда намечено отправлять «золотой конвой Роммеля»?
– Поначалу в Тунис, затем – куда будет приказано. Ваша команда, господин оберштурмбаннфюрер, находится в пяти километрах отсюда, в поселке Мардун, что на берегу моря.
– Вернемся к моему сегодняшнему визиту к Роммелю. Скажите прямо: завтра я все же могу рассчитывать на тот, лучший, случай?
– Завтра – возможно, да. А вообще-то наши офицеры стараются как можно реже попадаться на глаза командующему, – смерил его насмешливым взглядом адъютант Роммеля. – И, поверьте моему опыту, поступают очень мудро.
Шмидт покачался на носках пожелтевших сапог, отглотнул из фляги воды и, промочив горло, выплюнул ее прямо под ноги полковника Герлица.
– Поселок Мардун, говорите? Этот поселок – дерьмо!
– Можете в этом не сомневаться.
– Как и все в этой одичавшей, выжженной стране, – поиграл желваками барон фон Шмидт.
Ванна была похожа на небольшой бассейн. Она охватывала почти весь зал, оставляя лишь узкую полоску ослепительно-белого кафельного помоста, на котором вдоль стен чернели несколько кресел, столик и два лежака.
Золотистые стены, золотистая латунь ванны, золото огромных старинных подсвечников, в которых тускло мерцали теперь электрические лампы-свечи. Их было слишком много, чтобы создавать в ванной интимный уют, и слишком мало, чтобы в достаточной мере осветить абрис утонченно скроенного тела женщины, медленно выходящей по ступенькам из воды.
Отто и Лилия стояли за дверью, сквозь стекло которой могли спокойно наблюдать за купающейся Альбиной Крайдер, в то время как она видеть их не могла. Фройнштаг подвела его сюда слишком рано, считая, что двойник Евы Браун уже вышла из ванны, и теперь Скорцени приходилось отводить взгляд, чтобы не казаться подглядывающим. Но в том-то и дело, что внезапно одолевшее любопытство не позволяло ему сделать этого.
– А женщина ничего… Красивая… – поиграла ему на нервах Лилия.
– Не нахожу.
– Он, видите ли, не находит… Фюрер находит, а штурмбаннфюрер Отто Скорцени – нет! Это как понимать?
– Для нас куда важнее выяснить, соответствует ли эта Лже-Ева Браун своему оригиналу.
– Как вы собираетесь это выяснять? Сравнительным методом? Ночь со Лже-Евой я вам, конечно, гарантирую, а вот с самой Евой Браун могут возникнуть определенные трудности.
– Я даже догадываюсь, какие именно. Однако метод остается тот же – сравнительный. Исключая постельные подробности. Поэтому меня интересуют сейчас не прелести Альбины Крайдер, а ее способность проникнуться идеями… м-м… – замялся Скорцени, не зная, как бы поделикатнее определить статус Евы Браун, – ну, скажем так, соратницы фюрера; ее мыслями и чувствами, ее фанатичной верой в идеи вождя всего воюющего человечества.
– А вы в этом уверены, мой штурмбаннфюрер?
– В чем?
– Ну, в том, что наш оригинал, то есть Ева Браун, проникнута фанатичной верой в фюрера?
– Вы хотите сделать заявление для службы безопасности СС? Обладаете фактами?
– Чисто женская интуиция.
– Или ревность. Как у тех ариек, которые бросаются буквально под колеса лимузина фюрера с криками: «Фюрер, я хочу родить от вас сына! Подарите мне истинного арийца!» и так далее, в том же духе.
Лилия Фройнштаг едва заметно улыбнулась, однако Скорцени так и не понял, что именно скрывается за этой глубокомысленной ухмылкой. Хотелось бы ему верить, что не воспоминания о том, как она сама бросалась под эти же колеса национал социалистического шовинизма.
– Не надейтесь, мой штурмбаннфюрер, – это ее «мой штурмбаннфюрер» звучало как-то по-особому призывно, словно команда генерала, бросающего свои полки на штурм очередной крепости, – исповеди в духе фанатичной арийки не последует.