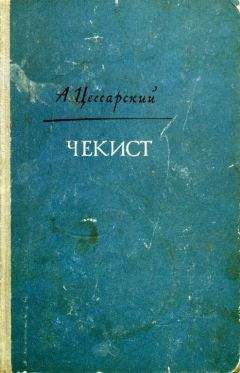Горечь неудач, воспоминания о погибших и раненых друзьях, стремление отомстить за них сливались в один обжигающий сплав, и люди воевали с каким-то исступлением, пренебрегая жизнью. Неистовые, не укладывающиеся ни в какие уставные рамки действия советских летчиков пугали фашистов сильнее, чем самая грозная боевая техника...
В один из этих трудных дней над селом Фрунзовка, расположенном близ Осиповки, где стоял полк, шесть «мессершмиттов» настигли командира полка. Он маневрировал с артистическим блеском. Еще в мирное время Иванов славился как один из выдающихся мастеров высшего пилотажа. Но немцев было шестеро.
Увидев с аэродрома, что майор попал в беду, командир звена Дьяченко, приятель Саши, весельчак и любимец эскадрильи, молниеносно поднял свою машину в воздух. Вдвоем драться легче, чем в одиночку, но гитлеровцы все же были втрое сильнее, и вскоре Дьяченко ранили. Силы его слабели, сознание мутилось. Он резко спикировал и посадил самолет.
Задыхаясь от волнения, Дьяченко наспех перевязал рану и, откинувшись на бронированную спинку, поглядел в небо. Фашистские летчики зажали командира в клещи, не давали ему выйти из боя.
— Собьют, сволочи, — прохрипел Дьяченко и оглянулся по сторонам.
Как на беду, аэродром был пуст; все самолеты ушли на задание.
— Гриша, тащи баллон! — приказал он топтавшемуся у самолета технику Чувашкину.
Гриша недоуменно уставился на Дьяченко.
— Куда?.. Добьют же вас.
— Молчать! — крикнул Дьяченко. — Устава не знаешь? Командира бьют... — Лицо его покрыла смертельная бледность. Кровь проступила сквозь марлю, и сил с каждой минутой становилось все меньше. — Прилетят Селиверстов, Фигичев... Скажи... Если не встретимся, — привет, мол, передавал. Понял? Ну, давай...
Зашипел воздух, мотор взревел, и ослабевший от потери крови Дьяченко, захлопнув фонарь, поднял машину в воздух. Порой она клевала носом, но потом, видимо, Дьяченко собирался с силами и снова бросал самолет вперед.
Майор Иванов уже изнемогал в неравной борьбе, когда в гущу фашистских самолетов, облепивших его со всех сторон, врезалась машина Дьяченко. Она шла, точно вслепую, напролом, и гитлеровцы стали шарахаться в стороны от страшного советского самолета. Приблизившись к командиру, Дьяченко прикрыл его и принял удар на себя. Разыгралась короткая ожесточенная схватка. Клещи разомкнулись. У гитлеровцев, видимо, запас горючего подошел к концу, и они круто повернули на запад. Командир полка и Дьяченко, прижавшись к земле, пошли на посадку. И в ту самую минуту, когда казалось, что все кончилось благополучно, самолет Дьяченко вдруг как-то вяло развернулся, накренился и упал...
Хоронили его во Фрунзовке под грохот разрывов: гитлеровцы яростно штурмовали переправы через Днестр. Повсюду в степи высаживались вражеские парашютные десанты. Отряды мотоциклистов, которым удавалось местами форсировать реку, тотчас же устремлялись на восток проселками и полями, стремясь внести панику стрельбой из автоматов и пулеметов. Фашистские самолеты, летая низко над землей, расстреливали машины, повозки, людей, шедших по дорогам.
Фрунзовку только что бомбили «юнкерсы». У разбитой церкви зияли свежие воронки. Остро пахло гарью, порохом и сухой пылью. Под ногами торопливых прохожих хрустело битое стекло. Доносился неутешный женский плач. Ржали раненые кони. И только глупые воробьи чирикали что-то бестолковое и веселое, раздражая своей суетой угрюмых летчиков, бережно несших на носилках изуродованное тело товарища. Было решено похоронить Дьяченко в центре деревни, над которой он провел свой последний бой.
Некогда было делать гроб, некогда было ставить памятник, говорить речи. Летчики молча положили тело товарища на край могилы, молча поцеловали его твердо сжатые, обескровленные губы, так же молча опустили его в яму и взялись за заступы. Когда вырос небольшой холмик, Селиверстов дрожащей рукой снял фуражку:
— Прощай, друг... Отвоюемся, живы будем, вернемся, поставим памятник. А пока не взыщи...
— Человек-то какой!.. — взволнованно проговорил Фигичев и закрыл глаза рукой.
Канонада за селом усилилась, и Селиверстов, прислушиваясь, мягко сказал, обняв друга:
— Пора, Валя. Пора на аэродром!
Гитлеровцы уже прорвались через Днестр, их танки устремились к Фрунзовке. И как только летчики вернулись с похорон, Фигичеву было приказано немедленно подняться в воздух и просмотреть дорогу.
Почти сразу же за Фрунзовкой над дорогой вставала высокая желто-бурая стена пыли: шли немецкие танки. Фигичев отпустил ведомого, чтобы тот доложил командиру обстановку, а сам спикировал на село.
Во Фрунзовку уже входила головная застава немцев. Фигичев пронесся над нею, чуть не задев винтом за башню танка, взмыл, бросил бомбу и полоснул пулеметным огнем мотоциклистов. Ему ответили бешеным обстрелом, но он упрямо повторил заход, потом еще раз прошелся над колонной.
Среди гитлеровцев возникло замешательство. Подбитый танк загородил узкую улицу. Несколько машин загорелись, в них рвались боеприпасы. А Фигичев в неистовой ярости носился над селом. Казалось, он готов был сечь винтом проклятые фашистские танки, лишь бы не пропустить их к могиле друга. И только когда у него не осталось ни одного патрона, он отвалил от вражеской колонны, прошел бреющим полетом над могилой Дьяченко, вернулся и вдруг начал выделывать над нею фигуры высшего пилотажа.
Гитлеровцы, приподнявшись с земли, ошалело глядели на крутившийся над ними советский самолет, даже перестав стрелять от удивления. А Фигичев выписал в небе прощальный росчерк и ушел в Осиповку. Из кабины он вылез постаревшим на десяток лет. На энергичном лице его горели возбужденные глаза. Слезы прочертили борозды на запыленных щеках. Заикаясь от волнения, он повторял, словно в забытьи:
— Ну, это им дешево не пройдет!.. Это им дешево не пройдет!.. — И, склонившись на приборную доску, глухо зарыдал.
Так начинался отход полка на восток. Из Осиповки — в Ивановку, из Ивановки — в Чижовку, из Чижовки — в Тузлы. Засыпая тревожным сном у самолетов, люди не знали, что ждет их завтра. И нужно было много душевной силы, чтобы сохранять присутствие духа в эти черные дни и драться, да так, чтобы каждое село давалось фашистам самой дорогой ценой.
По ночам в небе вставали зарева пожарищ, и порой начинало казаться, что сам небосвод кровоточит. Горели города, горели села, горели необъятные поля неубранных хлебов, и в горле першило от неотступного запаха жженого зерна. Вязкий сок выступал на свежих пеньках погубленных садов. Шевеля усталыми ногами толстый слой жирной черноземной пыли, брели на восток с каменными лицами старики, женщины, дети, охрипшие от плача, цеплялись за их одежду. Интенданты с красными от бессонницы глазами останавливали смертельно усталых бойцов и говорили умоляющим голосом: «Возьмите! Возьмите хотя бы по ящику шоколада. Сейчас будем жечь».
Ничего нельзя было оставлять врагу, все надо было увезти на восток или уничтожить. Люди знали это. Но горько было видеть, как гибнет наше добро, и еще горше было его губить. Гитлеровцы, которым Удалось, наконец, прорваться под Белой Церковью, загибали фланг, устремляясь на Первомайск, Кривой Рог и дальше на юг.
Полк стоял у Тузлах, когда стало известно, что гитлеровские передовые отряды уже подходят к Николаеву и, таким образом, отсекают последний путь на восток. Правда, можно было, еще присоединиться к одесскому гарнизону, который выполнял трудную, но благородную задачу: оттянуть на себя и перемолоть как можно больше вражеских сил. Но место 55-го полка было на Днепре, где должны были развернуться еще более жаркие бои; и командир полка принял решение: летчикам лететь напрямик, а техникам отходить на Одессу и оттуда плыть морем на соединение с полком.
В час торопливого расставания никто не мог сказать, когда теперь доведется свидеться, и тем крепче были молчаливые прощальные объятия. Один за другим отрывались от земли самолеты и уходили в сторону моря, чтобы незаметно проскользнуть к Херсону. Проводив последний истребитель, техники погрузили свое хозяйство на семь грузовиков и укатили в Одессу.
После трудного и опасного пути самолеты полка совершили посадку на широком зеленом лугу у богатого таврического села Чаплинка. Их привел сюда Пал Палыч Крюков, исстрадавшийся в пути: ни у кого не было карт, и Пал Палыч летел по расчету времени, твердо придерживаясь курса, заданного в Херсоне. Его бросало то в жар, то в холод, когда он вспоминал, что за ним тянутся десятки самолетов. Если бы он ошибся, произошла бы непоправимая катастрофа.
К счастью, все обошлось благополучно, и летчики, выпрыгнув из кабин, бросились качать улыбающегося и счастливого Пал Палыча. Всеобщее уважение к его штурманским способностям еще более возросло.
Начиналась битва за Каховский плацдарм.