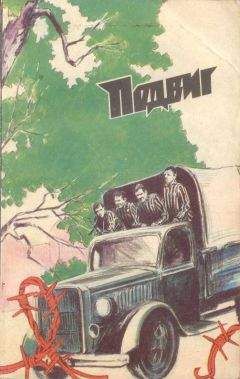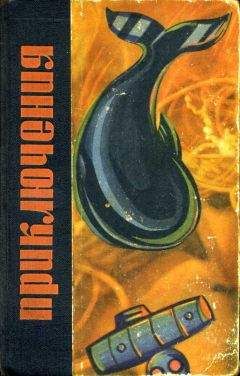— Будто на урок сзывают, — прошептал Андреев.
— Мне не надо, — сказал Лёвушкин и сплюнул. — Я целых пять классов окончил. Мне хватит.
Всё сильнее и ближе звонили колокольцем. И вот, выламывая осинничек, прямо на партизан выбежали две чёрно-белые «голландки».
— Глянь! — изумился Лёвушкин. — Мясо!
Передняя корова, огромная, с подпиленными рогами, с колокольчиком-«болтуном» на ошейном ремне, остановилась и дружелюбно замычала, словно при виде хозяев, готовых отвести её в безопасное стойло.
— Видать, от стада отбились… — сказал Андреев. — А может, пастуха убило… Всех война губит. Пойдём!
Они поспешно зашагали по мягкому вереску. Выстрелы приближались. «Голландка», покачивая полным выменем, потрусила за партизанами, следом побежала и тёлка.
Всё глубже в лес загоняли партизан егеря. Начались топкие места. Голые, чахлые осинки стали и вовсе низкорослыми, скрученными от своего древесного ревматизма. Появились мохнатые и высокие, как папахи, кочки, украшенные красными глазками созревшей клюквы, и чёрные, зловещие окна стоячей воды.
Лошади, напрягая ноги, тянулись вперёд всем телом, выдирали телеги из болотной липучки.
А позади — уже не по флангам, а позади — широко, километровым фронтом, растекался треск большого военного костра, зажжённого егерями: та-та-та-та!
Остановился Гонта — почти под ступицы подобралось болото, по лоснящимся тёмным бокам лошадей сползали, как мухи, крупные капли пота, и пена запекалась на шерсти.
Топорков о трудом выдирал свои болтающиеся на тонких ногах сапоги из чёрного месива. Лицо его оставалось сухим и бледным, но он задыхался, и кашель бродил в нём, клокотал и рвался наружу холодным бешеным паром.
— Вот куда гонят нас егеря! — Гонта посмотрел на свои утонувшие в болоте ноги. — Ловко!
— Да, — сказал майор, отдышавшись. — Хотят притопить в болоте, а после выудить без потерь.
— А виноват я! Это я загнал обоз в Калинкину пущу!
Топорков взглянул в затравленные, глубоко ушедшие под брови глаза Гонты.
— Виноват тот, кто учил вас, что горшки обжигать — это очень просто, — сказал майор безжалостно.
Лесной следопыт Андреев первым увидел за жалкими, скрюченными прутьями ольховника, за пожелтевшей осокой, за зарослями чёрной куги плотные кроны сосен.
Сосны не растут на болоте! Там, в трёхстах метрах, начиналась песчаная сушь, земля обетованная, жизнь!
— Туда, товарищ майор! — закричал Андреев, барахтаясь в болоте.
…Последнюю упряжку, с ослабевшими лошадёнками, партизаны втащили на песчаный бугор, находясь в полном изнеможении, с ног до головы выпачканные в грязи, блестя зубами и белками глаз. Они победно оглядели сосны над головой и повернулись назад: там, в болоте, потрескивало, приближаясь, автоматное пламя. Бугор меж сосновых стволов густо зарос ежевикой и папоротником. Ежевика впивалась в тело, царапала. Пустяки! Под ними была плотная песчаная земля!
Сверху партизаны увидели, что за бугром им предстоит преодолеть необозримо гладкое пространство, ковёр из похожего на снежные цветы белокрыльника, багульника, трав и мхов. Это пространство казалось прочным и незыблемым, как и та твердь, на которой они стояли.
Но в десяти метрах от берега, утонув почти по самые плечи в серо-зелёном ковре, как бы с обрубленным телом, стоял Андреев, и от него тянулась к холму зарастающая на глазах полоска чёрной воды.
— Всё! — крикнул Андреев. — Дальше топь. Нету нам ходу с бугра. Остров это, товарищ майор.
Со стороны только что пройдённого партизанами мелкого болота тявкающим голоском простучал автомат, и пули с характерным шлёпающим звуком ударили в сосновые стволы, да так гулко, что показалось, будто выстрелили сами деревья.
— Распрягай! Коней, телеги — под бугор! — скомандовал Топорков. Он задохнулся в кашле и хриплым голосом закончил команду: — Окапывайся! — И, взяв лопату с телеги, полез на вершину холма, под сосну; следом за ним, с пулемётом на плече, отправился Гонта.
— Может, отсидимся, сдержим егерей? — сказал Гонта вопросительно. Как ни хмурил он брови, ему не удавалось скрыть виноватый, растерянный взгляд.
— В болотах наша сила, — заметил Лёвушкин с иронией и принялся ожесточённо работать лопатой, отрывая окопчик.
Лицо Гонты ещё больше поскучнело. Они замолчали и прислушались к движению, происходящему на мелком болотце. Оттуда в промежутках между автоматными выстрелами долетали перекличка егерей, ругань, позвякивание металла и… мелодичное равномерное треньканье колокольца.
Блаженная улыбка заиграла на губах Бертолета.
— Слышите?.. Словно на челесте играют! — сказал он, вслушиваясь в звон колокольца.
— Чего, чего? — переспросил Лёвушкин, скривив рот. — Какая челеста? То наши с Андреевым коровки пробиваются.
И верно — из кустарника вышла крупная пятнистая «голландка», а за ней тёлка. Выпуклые глупые глаза животных отражали муку и полное непонимание всего, что происходит на белом свете. Спасаясь от загонщиков, коровы бросились на песчаный остров.
— К своим жмутся, — сказал Андреев. — Нет, животная не дура.
Гонта поставил на сошки свой трофейный МГ, а майор взвёл затвор автомата. Длинные, тонкие его пальцы заметно дрожали. Майор вытянул кисти, посмотрел на них внимательно и прижал к груди, успокаивая, как если бы они существовали отдельно от него, жили особой жизнью.
Двое «загонщиков» с похожими на короны остролепестковыми эдельвейсами на рукавах курток подходили к песчаному холму, выдвинувшись из широко растянутого пррядка. Они часто оглядывались, стреляли без всякой надобности и вытирали потные лица. Им было страшно, они боялись загадочного, ускользающего обоза, боялись болота, чёрных коряг, которые хватали за сапоги и за шинель, боялись топляков, показывавших из воды лоснящиеся спины; здесь всё было чужим и враждебным. Звонко заржала лошадь в партизанском обозе. Егеря остановились, переглянулись и осторожно подались обратно. Замерла и цепь егерей, охватившая остров полукольцом.
Зябко, тоскливо было на островке среди сизой сумеречной хмари, среди неизвестности. Партизан бил озноб, и они с надеждой посматривали на крохотный очаг, упрятанный глубоко в песок: там, в красной от угольев пещере, грелся казанок с чаем, и один вид этого прокопчённого казанка согревал охрипшее горло.
Под соснами раздавались странные ритмичные звуки: цвирк… цвирк… — будто пел жестяной сверчок. Быстрые руки Галины скользили по коровьим соскам. И били из переполненного вымени «голландки» по ведру тугие струи: цвирк, цвирк…
И тут же, чуть выше, сторожа непрочный уют этой странной, случаем сложившейся семьи, чернел пулемёт. Привалившись к нему, Гонта набивал ленту.
— Смолкли егеря, — проворчал он. — Комбинируют… Чего комбинируют?
— Небось не отстанут, пока с нами обоз, — сказал Лёвушкин, прервав заунывную песню. — Мы свою долю при себе держим, как горб.
— Да. Прижали нас. Ну ничего, — успокоил Андреев товарищей мудрым своим старческим шепотком. — Мы в своём краю, а они в чужом, нам легче. Родная земля — это, брат, не просто слова, живого она греет, а мёртвому пухом стелется.
— Прибауточки, утешеньица поповские твои, — вскипел вдруг Гонта и сорвался на шип, как котёл со сломанным клапаном: — Ты скажи прямо: считаешь меня виноватым, что на болотах сидим? Я вас в Калинкину пущу направил или нет? Прямо скажи!
Андреев поднял на Гонту зоркие, смышлёные глаза:
— Виноват, Гонта. Взялся командовать, так прояви свойство. Ты тогда не на месте оказался, а сейчас ты на месте. При пулемёте твоё место, Гонта, а не в генералах. Для каждого человека точное место приготовлено, где душа с умом сходятся, как в прицеле, и дают попадание. А то бывает, что душа в небо рвётся, а ум, как тяжёлая задница, привстать не даёт. И человеку одно мучение. Всё-то он готов силой переломать.
— Не ваша философия! — оскалился Гонта. — Вредный твой взгляд, дед. Человек всё может. Были бы преданность да воля!
И он поднял свой литой кулак.
— Не может… Командовать-то каждому лестно. Но не каждый может, — сказал Андреев. — Ох-хо-хо… Мне бы маслица лампадного или камфорного достать. Мучает ревматизм — ну, не военная хвороба!.. Ты, Гонта, не казнись, ярость прибереги на немца.
Галина, склонившись над раненым ездовым, поила его молоком из дюралевой кружки. Зубы Степана дробно стучали о металл.
— Попей, попей тёпленького, — приговаривала Галина. — Ты крови много потерял… Вот довезём тебя до отряда, — утешала она ездового, как ребёнка, — а там в самолёт — и на Большую землю, в госпиталь. Там хорошо, чисто, тепло… Все в белом ходят, и всю ночь огонь у нянечки горит…
Ездовой слушал, и лицо его успокаивалось, и страх смерти, отвратительный, липкий страх, беззвучно стекал с него в песок, в болото, как болезненный пот. Немудрёные, знакомые уже Степану слова утешения звучали как внове, как сказанные только для него, раненного, и был в них непонятный и властный смысл, была в них тайна, которой владеет лишь женщина — милосердная сестра, жена, мать.