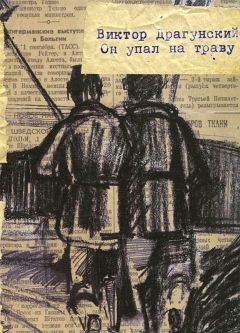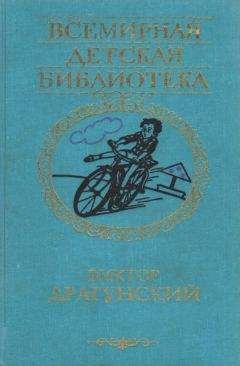Он пытался меня пожалеть и два раза брал меня под руку, как старуху, но я пихнул его локтем в грудь, и он отстал. Мы шли с ним уже часа два-три, над лесом встала кривобокая луна, и на дороге были видны замерзшие лужицы. Под тонкой прозрачной корочкой льда переливалась нежным узором еще живая вода, и лужицы были похожи на кружева. Они были похожи на узоры из наряда царевны Волховы. Они были похожи на серебряные слитки. И на причудливые обломки зеркал. И на удивленные глаза.
Мы давно уже шли с Байсеитовым и еще не сказали друг другу ни слова. Часа полтора тому назад небо за нашей спиной заполыхало кровавыми перьями пожаров, и бомбы стали разрываться за нашей спиной. Они прямо наступали на пятки. Видно, фриц двинулся вперед. Надо было нажимать, и мы шли очень быстро, не так, как ходят в строю, а просто вовсю, и мне было трудно. Да и Байсеитову тоже, ведь мы давно ничего не ели, а шли уже в общей сложности часов десять, а впереди ничего не было — ни огня, ни жилья. Но все-таки мы шли и шли, влекомые Москвой, все вперед и вперед, несмотря на то, что ноги у меня опять болели и мне казалось, что они кровоточат. Мы шли вдвоем с Байсеитовым. Теперь Байсеитов был моим спутником, а Лешка отстал в пути, прилег на дороге и не догонит никогда…
— Потерять друга — счастье потерять, — сказал Байсеитов. Он догадался, понял, о ком я думаю, идя с ним рядом.
Я сказал:
— Да.
Байсеитов расстегнул ватник. Прямо в лицо нам дул ледяной ветер, но Байсеитов подставил ему свою коричневую дубленую грудь, которая не чувствовала холода.
— Обида жгет, — сказал он гортанно, — когтит душу, как кобчик перепелку.
Он замолчал и потом снова сказал кому-то гневно, с укором:
— Нельзя так, слушай, — так нельзя!
Да, обида грызла нутро. И с этой обидой, как с пулей в груди, закусив губы и шатаясь, в тяжелых сапогах, мы шли с Байсеитовым, мы шли, шли, шли, шли без конца. Мы только с ним и делали, что шли, шли, шли, шли… Дорога лежала перед нами, бесконечная ночная дорога, стылая и молчаливая, холодюга стоял собачий, ветер подвывал в голых вершинах, и два десятка километров остались за нашими плечами, как два десятка лет. И казалось, что конец нам, никогда мы не выйдем из этой тьмы и холода, и все равно надо было идти, идти, идти и идти. После полуночи силы отказались мне служить, мне стало наплевать на все на свете, и снова боль охватила все тело. Она сжимала меня обручами, особенно грудь, и не давала мне ни вдохнуть, ни выдохнуть. В глазах моих встало какое-то марево, оно кружило голову, и странная полусонная одурь нашла на меня. Я хотел спать. Плюнуть на все и завалиться поспать. Простое желание, и я высказал его Байсеитову.
— Я посижу, Байсеитов, — сказал я, садясь. — Иди. Я догоню.
Я сел у дороги и уютно привалился к дереву.
Байсеитов стоял подле. Он попытался поднять меня, но я выскользнул из его рук и снова стал моститься у дерева.
— Встать! — крикнул Байсеитов, как командир. — Встать немедленно!
Я встал, пошатываясь. Это было неожиданно для меня самого. Я встал и вытянул руки по швам и закрыл глаза. Меня качало.
— Открой глаза, — сказал Байсеитов. — На!
Я увидел в его руке маленькую круглую жестяночку из-под вазелина, она была открыта, в ней что-то белело. Байсеитов приподнял мою левую руку и подставил под нее свое плечо. Рука его опоясала меня, это был спасательный круг.
— Масло, — сказал Байсеитов. Он поднес вазелиновую баночку к самому моему лицу. — Двадцать пять граммов. Паек. Я со стола ухватил, когда побежал.
Он сунул палец в банку, подковырнул масло и вложил мне палец в рот. Оно растаяло во рту мгновенно и сделало свое дело. Я сказал:
— Пошли, Байсеитов.
Он лизнул пустую банку два раза и отшвырнул ее. Мы двинулись по дороге. Он шел впереди, и мы опять занялись с ним делом: мы шли, шли, шли… Сколько — не знаю. Знаю, что бесконечно долго. Я опять начал пошатываться и засыпать на ходу, и железный Байсеитов тоже шел неверной походкой, плечи его опустились, голова подалась вперед вместе с шеей, и он шел, шел, шел под горящим небом, а за ним, то догоняя его, то далеко отставая, шел, шел, шел я. Ночь застыла, она отказалась двигаться, она забыла про нас, и до рассвета было еще сто лет. И никого, никого, кроме нас, на дороге.
Идем, опять идем, опять идем, идем, ковыляем, идем, спотыкаемся. И вдруг, спустившись в маленькую ложбинку, мы увидели бредущую нам навстречу лошадь.
— Ну вот, — сказал Байсеитов облегченно, — вот и все! Сейчас мы верхом поедем!
Он стал подходить к лошади, протянув перед собой руку ладонью кверху. Лошадь доверчиво шла к нему навстречу. Она подошла к нам и стала тыкаться нежным храпом в руку Байсеитова.
— Хлеба хочет, — сказал Байсеитов.
Я сказал:
— Нету хлеба.
Байсеитов прислонился к лошади, и она пошатнулась. Он повернулся к ней лицом и взял ее за холку левой рукой. Он попытался вскочить на нее, на костистую жалкую ее спину. Он бормотал:
— Счас… Счас… я сяду. Потом тебя втащу. Прр, тпру…
Но сесть ему не удавалось, он слишком устал, ослаб и отощал, и слишком тяжелые были на нем сапоги, он только тщился бесполезно и корябал бока лошади сапогами. Лошадь терпела все это. Но Байсеитов не мог на нее взобраться. Тогда он взял ее за ноздри и повлек за собой, он брел так, покуда не увидел того, что искал. Это был пенек. Байсеитов поставил лошадь у пенька и взошел на него. Лошадь стояла тихо, она понимала наше положение и хотела нам помочь. Я это видел. Байсеитов подпрыгнул и лег животом на острый хребет. Он повисел так, отдуваясь, и, наконец, перекинул правую ногу. Он уже сидел, когда лошадь вдруг подогнула передние ноги и рухнула на колени. Байсеитов сполз к шее и слез на землю.
Я сказал:
— Она умирает.
Байсеитов закрыл лицо руками. Лошадь легла на бок и пошевелила ногами. Она хотела нам помочь, я это знал. Но у нее не вышло. Она была стара, и она умирала. Байсеитов пошел по дороге. Лошадь тихонько ржанула ему вслед. Байсеитов не оборачивался. Я пошел за ним.
Утром мы увидели Наро-Фоминск. Первый же косматый старичок, встретивший нас у самого выхода дороги на окраину города, увидев нас, замер от испуга, и когда мы попросили у него воды, вынес нам целое ведро. Он долго глядел на нас и наконец сказал хрипло и натужливо:
— Вы откуль вышли-то, ребята?
— Из Щеткина, — сказал Байсеитов.
— Вона, — сказал дед. — Как же вы из Щеткина? Из Щеткина много народу пришло еще ночью.
Мы переглянулись с Байсеитовым.
Я сказал:
— Где же они выходили?
— Да вона, — дед показал рукой, — у вокзала — во-она!
— А мы отсюда выходили, вот здесь, за вашим домом, — сказал я.
— Вот что, — дед показал два зуба на голых деснах, — это, милые, старая дорога, по ней никто не ходит, это вы крюку дали верстов двадцать, а то и двадцать пять!
И он засмеялся добродушно так, сердечно.
И мы пошли с Байсеитовым через весь город и увидели, правда, другую дорогу, по которой шло множество всякого народа, двигались машины и крестьяне на телегах, и скотина, и весь этот живой поток вливался в широкую улицу, ведущую к вокзалу. Мы шли вдвоем, опираясь на суковатые палки — на рассвете Байсеитов оснастил нас этими чудовищными полупосохами-полукостылями. Мы шли и чувствовали на себе внимательные взгляды встречных, идти было невыносимо трудно и больно, и хотя я знал, что скоро конец этому моему походу, но я все равно каждую минуту думал, что умру. Нас догнала телега, рядом с ней шла высокая костистая старуха в мужском пальто и шляпе поверх платка.
— Садись, — сказала старуха зычно. — Подвезу.
Мы еле всползли на телегу, и старуха подсаживала нас.
Она была громогласная и разговорчивая. Мы неудобно пристроились с самого края. Телега была завалена маленькими полосатыми, как арбузы, мандолинами и крутобедрыми гитарами. Наверху лежала гигантская балалайка. Весь этот странный товар позванивал и потренькивал от тесноты, и когда Байсеитов неловко шевельнулся, жалобно зазвенела какая-то басовая струна.
— Полегче, полегче, — сказала старуха трубным своим голосом. — Смотри не раздави мне музыку — она государственная. Оркестр народных инструментов колхоза «Восход»…
Она шевельнула вожжами, и мы заскрипели по улице. Старуха шагала рядом с нами. У нее были удивительно крупные шаги.
— Спасаю музыку от фрица, — сказала старуха. — Ему на ней не играть… Одна я в клубу-то — все на войну ушли. И заведующий, значит, и библиотекарь, все побегли душить проклятого. Ну а я гляжу, этак он ненароком до нас дорвется, шалавый черт, — запрягла да всю музыку-то и навалила валом. Пережду где-нибудь, пока его отобьют, а потом в обрат. Не играть ему в нашу музыку, лешему, нет! Так, что ли, ребята?
— Вы правильно делаете, бабушка, — сказал я.
Старуха удовлетворенно хмыкнула. Лошадь двигалась медленно, улица была запружена народом, забита транспортом, глаза мои слипались, но я не спал, не мог спать, наверное, от голода. Я смотрел на дорогу, на людей, которых обгонял, и видел, как в толпе мелькнули Киселев и, кажется, Ванька Фролов, и еще кто-то, не Хомяков ли. Не узнал, не успел догнать взглядом, а окликнуть просто не было сил. Только я видел многих наших и видел, что они были такие же слабые, как мы, если не слабее.